
Рис. 1 - Направления развития концепции «инклюзия»
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
№ 2 (275)
Серии: «Педагогические науки»
«Гуманитарные науки»
ВОРОНЕЖ 2017 г.
Учредитель
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
_«Воронежский государственный педагогический университет»_
Председатель научно-редакционного совета — главный редактор: ректор ВГПУ, доктор исторических наук, профессор С.И. Филоненко
Зам. председателя научно-редакционного совета — зам. главного редактора, проректор по научной работе,
доктор физико-математических наук, профессор В.А. Хоник
Редактор серии «Педагогические науки»: доктор педагогических наук М.В. Дюжакова
Редакционная коллегия серии «Педагогические науки»: доктор педагогических наук, профессор М.В. Шакурова,
Заслуженный деятель науки РФ, доктор педагогических наук, профессор Е.П. Белозерцев, доктор педагогических наук, профессор А.С. Петелин, доктор психологических наук, профессор Н.Б. Трофимова, кандидат психологических наук, доцент Т.Л. Худякова, член-корреспондент РАО, заслуженный деятель науки РФ, доктор педагогических наук,
профессор В.В. Сериков (Российская академия образования, Москва)
Редактор серии «Гуманитарные науки»: доктор исторических наук, профессор А.В. Перепелицын
Редакционная коллегия серии «Гуманитарные науки»: доктор филологических наук, профессор Б.С. Дыханова, доктор филологических наук, профессор О.В. Загоровская, доктор филолгоических наук, профессор кафедры французского языка и иностранных языков для неязыковых профилей А.Э. Воротникова, доктор исторических наук, профессор В.Н. Фурсов, доктор культурологии, доцент А.В. Шипилов
Редактор серии «Естественные науки»: доктор физико-математических наук, профессор В.В. Свиридов
Редакционная коллегия серии «Естественные науки»: доктор химических наук, профессор Н.Н. Афонин, доктор медицинских наук, профессор А.Н. Корденко, доктор физико-математических наук, профессор В.В. Обуховский, доктор географических наук, профессор В.М. Смольянинов, доктор физико-математических наук, профессор В.А. Федоров (ТГУ, Тамбов)
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-67365 от 05 октября 2016 г.
Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в общероссийский каталог ОАО Агенство «Роспечать», подписной индекс 70731, в систему Российского индекса научного цитирования дог. № 600-09/2013 от 30.09.2013
С 1 декабря 2015 года журнал включен в Перечень ВАК по следующим отраслям науки и группам специальностей:
07.00.00. — исторические науки и археология;
10.01.00 — литературоведение;
10.02.00 — языкознание;
13.00.00 — педагогические науки.
ISSN 2309-7078
С мая 2017 года журнал индексируется библиографической базой данных «Европейский Индекс Цитирования для Гуманитарных и Социальных Наук ERIHPLUS (Europian Reference Index for the Humanities and Social Sciences)
СЕРИЯ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Соколова Н.В., Рапопорт И.К. Комплексный подход
Харьковский Н.П., Туманцева Т.А. Развитие творческого потенциала бакалавров
Заридзе Г.В. Образовательная деятельность Русской Православной Церкви
Иванова Н.А., Бахтина О.В. Формы организации занятий по устному счету на уроках
Волобуева Н. Г. Создание здоровьесберегающей эколого-развивающей предметной среды в помещении детского сада в условиях северных регионов страны
ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
Карташова М.М. Размышления о воспитании в контексте осмысления
Белозерцев Е.П., Мязитов Э. Р. Средовой подход к педагогическому образованию офицеров
Кантур О.Н. Константин Александрович Москаленко - ученый-гуманист
Некрасова Н. И. Государственно-конфессиональный диалог как реализация наследия
Немешин В. Ю. Национальное воспитание в детских и молодежных организациях Русского
ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Белозерова Г.И., Кононова З.А. Особенности организации обучения специалистов
Булгакова С.Ю., Борисов О.В. Специфика оценочной деятельности
Овод В.В. Системно-структурные компоненты проектировочной компетенции
Анисимова Т. И. Психолого-педагогические условия формирования жизненной
Харьковский Н. П. Дизайн как объект исследования в педагогическом
Сергеева Л. В. Ключевые факторы адаптации иностранных студентов
СЕРИЯ: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ, АРХЕОЛОГИЯ
Князева Д. В. Заселение и юридический быт Зауралья по публикациям А.Н. Зырянова в
Шипилов А. В. Текстильный промысел в России в первой половине XVIII века.........................106
Волкова Е.А., Перепелицын А.В. Восточная политика России в художественных и
Карпачёв М. Д. Воронежская деревня накануне революции 1917 года: к оценке предварительных
Зверков Е. А. Падение дисциплины среди солдат 8-й пехотной запасной бригады
Марковчин В. В., Емельянов А. С. Политическая деятельность русской эмиграции за границей ... 139
Малютина Т. П. Победы и неудачи. Бои частей Красной армии против 1-й румынской пехотной
Хисамутдинова Р. Р. Деятельность Чкаловского (Оренбургского) областного управления
Головин Е.А., Коровин В. В. Проблемы развития промышленности строительных материалов в
Березуцкий В.Д., Шишов В.В. «Возвращение к истокам»: из прошлого в будущее.......................171
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Доброва С. И., Мудрая М. В. Репрезентация гендера в фольклорном тексте
Загоровская О.В., Ипполитова И. С. Школьный словарь русской православной лексики
Максимов И. М. Социальный аспект использования жаргонизмов автомобильной тематики
Жернова Н. С. Идеальная мученица или грешница
Фомина Ю. В. Невербальное отражение двойственной модели женственности
Борисова У. Ю. Жанровые особенности повести И.С. Тургенева «После смерти (Клара Милич)» .. 202
(отрасль науки 13.00.00)
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ_
СОКОЛОВА Наталья Валерьевна,
доктор биологических наук, доцент, проректор по учебной работе,
Воронежский государственный педагогический университет;
РАПОПОРТ Ирина Калмановна,
доктор медицинских наук, профессор, заведующая лабораторией научных основ школ здоровья,
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей» Минздрава России
АННОТАЦИЯ. Представлены результаты исследования качества жизни различных групп учащейся молодежи (более полутора тысяч человек), которое осуществлялось на протяжении трех лет. Рассмотрены теоретические аспекты проблемы формирования качества жизни и состояния здоровья подростков, юношей и девушек старше 18 лет. Определены приоритетные факторы, формирующие качество жизни отдельных групп молодежи. Обсуждаются различные методические подходы к изучению качества жизни подростков и студентов в зависимости от цели и задач гигиенического исследования. Рассмотрена значимость объективной оценки состояния здоровья учащейся молодежи в сопоставлении с субъективной оценкой этими же респондентами своего здоровья и качества жизни для разработки профилактических программ и гигиенического просвещения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: школьники, студенты, качество жизни, здоровье, факторы среды, возрастной период, субъективная и объективная оценка, профилактика.
SOKOLOVA N.V.,
Dr. Biolog. Sci., Docent, Vice Rector for Academic Affairs,
Voronezh State Pedagogical University
RAPPOPORT I.K.,
Dr. Med. Sci., Professor, Head of the Laboratory for Scientific Bases of Health Schools, Research Institute of Hygiene and Health of Children and Adolescents of the Federal State Autonomous Institution "National Scientific and Practical Center of Children's Health" of the Ministry of Health of the Russian Federation
INTEGRATED APPROACH TO YOUNG STUDENTS’ LIFE QUALITY ASSESSMENT
ABSTRACT. The article presents the results of a study on the life quality of various young student groups (more than 1,500 people), which has been carried out for three years. The research considers theoretical aspects of life quality formation and health status of adolescents, boys and girls over the age of 18. Priority factors affecting the quality of life of certain youth groups are determined. The authors discuss a diversity of methodological approaches to studying the quality of life of adolescents and students, depending on goals and objectives of hygienic research. High priority is given to an objective assessment of young students’ state of health opposing to subjective evaluation by the same respondents of their health and quality of life. The approach is crucial for elaboration of preventive programs and hygiene education.
KEY WORDS: schoolchildren, students, life quality, health, environmental factors, age, subjective and objective assessment, prevention.
Актуальность
В последние десятилетия в нашей стране особую актуальность приобретают проблемы улучшения состояния здоровья и повышения качества жизни подростков и учащейся молодёжи. Как показывает анализ литературы, эти вопросы занимают особое место в кругу гигиенических, медико-биологических и социальных работ [1-7; 9— 11; 13—18].
В конце XX и начале XXI века широкое распространение в научном сообществе получила разработка концепции «качество жизни». В России с начала 90-х годов XX века сформировался ряд направлений исследования качества жизни (КЖ) населения, проводимых различными научноисследовательскими институтами России. Среди ведущих специалистов в области исследования КЖ можно назвать Давыдова А.А. (1993), Новика А.А.
(1999) , Кузьмичёва Л.А. (2000), Шевченко Ю.Л.
(2000) , Ушакова И.Б. (2005—2007), Винярскую И.В. (2007), Шубочкину Е.И. (2013—2015), Блинову Е.Г. (2015), Попова В.И. (2016) и других [3; 6; 12; 14; 15; 19—20].
Качество жизни — это прежде всего «медикосоциальное явление, охватывающее соматическое и психофизиологическое здоровье человека, его благосостояние и жизненные ценности, а также уровень экономического развития общества» [6]. Несмотря на значительные разночтения в трактовке понятия «качество жизни», большинство авторов
Информация для связи с автором: sokoli@vmail.ru (Н.В. Соколова)
сходятся во мнении, что определяющими компонентами данного понятия являются состояние здоровья и степень удовлетворенности личности собственной жизнью.
ВОЗ определяет качество жизни - как «восприятие индивидами их положения в жизни в контексте культуры и системы ценностей, в которых они живут, в соответствии с их собственными целями, ожиданиями, стандартами и заботами».
Мы в своей работе использовали определение КЖ, которое было дано А.А. Давыдовым с соавторами (1993), а также представлено в книге Н.А. Агаджаняна, Г.П. Ступакова и И.Б. Ушакова с соавторами (1996). «Качество жизни - это большое ёмкое понятие, олицетворяющее собой синтез материальных, духовно-творческих и экологических сторон жизни и отражающее уровень реализации родовых сил человека, уровень реализации творческого смысла его жизни... Главной составляющей понятия "качество жизни" является степень удовлетворенности жизнью респондентом».
К сожалению, изучению КЖ жизни молодого поколения уделяется недостаточное внимание как в зарубежных, так и в отечественных исследованиях. В связи с этим актуальность изучения КЖ подростков, а также юношей и девушек старше 18 лет, студентов не вызывает сомнений. Поэтому, по нашему мнению, целесообразно обсуждение на страницах печати разнообразных методических подходов к исследованию этого вопроса в зависимости от целей и задач, поставленных в научной работе.
В современной литературе присутствуют немногочисленные работы, отражающие отдельные аспекты оценки КЖ подростков и студентов (Виняр-ская И.В., 2006-2008; Блинова Е.Г., Шубочкина Е.И., Иванов В.Ю. Ибрагимова Е.М., 2013-2015, Попов В.И, 2016). В различных клинических исследованиях, в частности в педиатрии, чаще всего для оценки КЖ детей с конкретной патологией используются специфические опросники, а для популяционных исследований - неспецифические опросники. Так, для детей раннего возраста используется опросник «QUALIN», а для более старших детей - опросник «PedsQL». По мнению клиницистов, определение КЖ может служить конечной точкой в оценке эффективности медицинских вмешательств в области профилактики, лечения и реабилитации.
При гигиенических исследованиях КЖ подростков и студентов наиболее часто применяется американский опросник «MOS-SF 36», состоящий из 36 вопросов, ответы на 35 из которых используются для получения значений по 8 шкалам. Использование международных неспецифических опросников позволяет оценивать КЖ респондентов, как здоровых, так и c различными функциональными нарушениями и хроническими заболеваниями. При этом не рассматриваются конкретные отклонения в состоянии здоровья, а только оцениваются изменения показателей по каждой из 8 шкал. Такой подход, во-первых, дает возможность проводить сравнительный анализ показателей по каждой шкале c таковыми у респондентов различных изучаемых групп, причем проживающих как в России, так и за рубежом. Во-вторых, появляется возможность проведения корреляционного, факторного и других видов статистической обработки данных при выявлении степени влияния экзогенных факторов (экологических, учебных, поведенческих и др.) на показатели каждой шкалы.
Однако в гигиенических исследованиях часто недостаточно изучить влияние того или иного фактора на совокупность всех нарушений здоровья, имеющихся у респондентов и проявляющихся изменением показателей по тем или иным шкалам. Нередко необходимо не только изучение влияния факторов на конкретные показатели состояния здоровья (заболеваемость по отдельным классам, группам заболеваний и нозологическим формам; показатели физического развития), психологическое благополучие, оцениваемое при клиническом обследовании и измеряемое психометрическими методиками, но и исследование «восприятия» самим респондентом влияния изучаемых факторов на его жизнь.
Мы разделяем мнение академика РАН И.Б. Ушакова [18; 19] о том, что важной особенностью современных подходов к изучению качества жизни является положение о том, что КЖ имеет две стороны: объективную, которая определяется комбинацией различных нормативных и статистических характеристик, и субъективную, связанную с тем, что интересы и потребности конкретных людей всегда индивидуальны и отражаются в субъективных ощущениях индивидов, их личных мнениях и оценках. Можно только добавить на основании предшествующих исследований, что субъективная оценка КЖ подростками и молодежью очень изменчива и зависит от возраста, пола, социального статуса (учащийся средних классов, старшеклассник, кадет, студент колледжа, студент вуза и т.п.), места проживания (город, село), психологических особенностей личности.
Исследование субъективной оценки респондентами конкретных факторов, влияющих на их КЖ, позволяет определять приоритеты в профилактической и оздоровительной работе, более целенаправленно разрабатывать профилактические программы и, что, на наш взгляд, особенно важно, более убедительно строить гигиеническое обучение и воспитание, формирование здорового образа жизни.
Исследования качества жизни в рамках концепции И.Б. Ушакова [8; 10; 18; 19] показали, что определение значений показателей качества жизни возможно путем их непосредственного измерения, расчета или качественного описания на основе результатов экспертных или социологических опросов. При этом следует осознавать, что мнения отдельных людей о КЖ могут отличиться от объективно сложившихся характеристик и условий. Поэтому целесообразно продолжение разработки теоретических и методических подходов к изучаемым проблемам.
Цель нашего исследования: обосновать комплекс методов, необходимых для выявления роли наиболее значимых факторов в формировании качества жизни старших подростков и учащейся молодежи.
Для достижения поставленной цели был решен ряд задач, в том числе проведен сравнительный анализ КЖ различных контингентов подростков и учащейся молодежи - школьников, обучающихся в городских и сельских школах, студентов; изучены медико-биологические факторы (состояние здоровья, физическое развитие и физическую подготовленность), влияющие на КЖ школьников и студентов; проведена оценка гигиенических условий обучения и воспитания, воздействующих на качество их жизни; проанализированы в сравнительном аспекте условия проживания и питания подростков и молодежи изучаемых групп; выявлены факторы, влияющие на КЖ школьников и студентов; установлена взаимосвязь между психологическими характеристиками личности и основными критериями КЖ школьников и студентов.
Материалы и методы
Всего обследовано 1867 человек. В течение трех лет исследование выполнялось на одном и том же контингенте учащихся. Респонденты были представлены учениками старших классов типичных сельских и городских школ; учащимися Воронежского колледжа строительных технологий и Воронежского государственного педагогического университета. Кроме того, проведено пилотное исследование курсантов кадетского корпуса г. Москвы, а также анкетирование родителей городских и сельских школьников и студентов. С целью проведения комплексного исследования нами была разработана специальная программа изучения влияния различных факторов на формирование качества жизни подростков и учащейся молодёжи, включающая в себя шесть этапов.
Для изучения субъективной самооценки качества жизни нами была модифицирована и адаптирована для данного подростково-молодежного контингента анкета, разработанная сотрудниками НИИИ военной медицины (И.Б. Ушаков, А.Н. Корденко и др.). Она включает в себя вопросы и многовариантные формализованные ответы, характеризующие различные стороны качества жизни подростков и учащейся молодёжи. Для подтверждения психометрических свойств анкеты оценивали её надёжность, достоверность и чувствительность. Для оценки состояния здоровья использовали объективные и субъективные характеристики. Учитывая то, что старшеклассники не всегда владеют достоверной и полной информацией о заболеваниях, перенесенных ими, мы данные вопросы предпочли включить в анкету-опросник, разработанную нами для родителей подростков. Для формирования объективной оценки уровня заболеваемости респондентов мы анализировали данные, полученные в ходе работы военно-медицинской комиссии и данные медицинских карт студенческой поликлиники. Для характеристики физического развития использовали стандартные соматометрические и физиометрические показатели, оценку которых осуществляли с помощью региональных возрастно-половых таблиц. Для оценки гигиенических факторов исследовали факторы учебного процесса и сопоставляли их с нормативными требованиями (СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а также использовалось пособие для врачей «Определение уровня санитарно-гигиенического благополучия образовательных учреждений», утв. МЗиСР РФ 25.12.2004. -
СПбГОУ ВПО «СПБГМА им И.М. Мечникова Росзд-рава», 2007).
Для оценки степени влияния факторов образовательной среды на состояние организма школьников проводили измерение отдельных показателей деятельности сердечно-сосудистой системы в динамике учебного дня, учебной недели, учебного года, а также до и после экзамена. Гигиеническую оценку качества питания проводили по основным нутриентам, регламентируемым физиологическими нормами. Химический состав среднесуточных рационов рассчитывали по справочным таблицам. Гигиенические условия проживания обследуемых респондентов оценивали на основе данных анкетирования школьников, студентов и их родителей, а также данных, полученных в ходе проведенных инструментальных измерений и визуального наблюдения. При проведении психофизиологического обследования ставили перед собой задачу оценки типологических свойств нервной системы обследуемых респондентов, а также индивидуальных психологических особенностей с помощью стандартных тестов. Кроме того, проводили исследование когнитивных процессов: умственной работоспособности, памяти, внимания и логического мышления в динамике учебного дня, учебной недели, учебного года.
Для статистической обработки данных был создан автоматизированный архив, для обработки которого использовали вариационный и альтернативный анализ. С целью определения наличия взаимосвязей между различными группами показателей использовали корреляционный и дисперсионный анализы. Статистическая достоверность разности сравниваемых результатов оценивалась с помощью t-критерия Стьюдента.
Результаты и их обсуждение
Анализируя полученные нами результаты, хотелось бы отметить достаточно высокую самооценку КЖ у школьников и студентов. Доказано, что в наименьшей степени довольны своей жизнью студенты, а в наибольшей - сельские подростки. В ходе ранжирования основных составляющих КЖ установлено, что в первую очередь самооценку качества жизни обследованных респондентов определяет состояние здоровья. Второе ранговое место в группе школьников принадлежит материальному благополучию, а среди студентов - взаимоотношениям с родителями. На третье ранговое место респонденты единодушно поставили успешное обучение. Распределение других составляющих КЖ обусловлено не только возрастом обследуемых, но и местом их проживания, что более детально было доказано в ходе проведения дисперсионного анализа.
Сравнительный анализ структуры заболеваемости и изменений показателей функциональных нарушений и хронических заболеваний школьников и студентов показал высокую частоту функциональных расстройств среди учащихся городских школ (3844,4%о против 3170,5%о). Основной «вклад» в структуру функциональных отклонений вносят нарушения в деятельности системы кровообращения, распространенность которых 382,8%, нервной системы (206,4%), органа зрения (189,4%), а также эндокринно-обменные расстройства. Особую тревогу вызывает значительное увеличение числа детей, имеющих нарушения в деятельности нервной системы и психической сферы.
Среди хронических заболеваний у школьников первое ранговое место прочно занимают болезни костно-мышечной системы, частота которых составляет 582,6%. Второе место - заболевания пищеварительной и нервной систем, а также психической сферы (вместе). В студенческой среде следующие классы заболеваний занимают последовательно ведущие ранговые места: болезни пищеварительной системы, органа зрения и костно-мышечной системы.
Учитывая то, что значительную часть своего времени обследуемые нами респонденты проводят в образовательном учреждении, можно утверждать, что именно учебная среда и оказывает наибольшее воздействие на состояние здоровья школьников и студентов, а следовательно и на степень удовлетворённости КЖ. Согласно результатам, полученным в ходе комплексной гигиенической оценки условий обучения школьников и студентов, было установлено, что типичными нарушениями гигиенических требований, характерными для обследованных учебных заведений, явились: отсутствие достаточного набора мебели, соответствующей росту учащихся; превышение наполняемости учреждений; нарушения температурного режима в зимний период; низкий уровень освещённости учебных помещений; нерационально составленное расписание занятий и чрезмерно высокая учебная нагрузка. Оценка расписания уроков с помощью шкалы трудности предметов показала, что расписание уроков сельских школьников в целом соответствует недельной динамике умственной работоспособности. В расписании же городских школьников минимальная нагрузка приходится на понедельник, в дальнейшем она постепенно увеличивается к пятнице (максимальный объём) и несколько снижается в субботу. Расписание занятий, составленное по таким принципам, оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья городских школьников. Чрезмерная учебная нагрузка в первую очередь сказывается на показателях деятельности сердечно-сосудистой системы. По результатам проведённого нами исследования можно говорить о достоверном увеличении частоты встречаемости артериальной гипертензии у 16-17-летних подростков (особенно в городской среде), а также о высоком проценте детей с признаками выраженной тахикардии, что предполагает проведение дополнительного медицинского обследования подростков и вызывает серьезные опасения.
Наиболее достоверно реакцию организма школьника и студента на нервно-эмоциональную учебную нагрузку характеризует тревожность. Согласно результатам, полученным в ходе анализа динамики показателей личностной тревожности респондентов в течение учебного года, установлено, что в мае у учащихся выпускных классов происходит достоверное увеличение числа лиц с высоким, а студентов -со средним уровнем личностной тревожности.
Таким образом, факторы современной образовательной среды, как общеобразовательной, так и высшей школы, оказывают негативное воздействие на формирование качества жизни и состояние здоровья учащихся.
Немаловажное значение в формировании КЖ подростков и студенческой молодёжи играют условия питания и проживания респондентов. По результатам проведенного нами анкетирования, только четвертая часть опрошенных школьников и лишь 4,5% студентов соблюдают режим питания. При сопоставлении данных субъективной оценки КЖ с ответами учащихся на вопрос «Соблюдаете ли вы режим питания?» мы пришли к выводу, что респонденты с высокой оценкой качества жизни наиболее часто соблюдают режим питания, а лица, не довольные качеством своей жизни, иногда или совсем никогда его не соблюдают. Рацион питания респондентов в целом характеризуется однообразием, нерациональностью. В нем преобладает углеводистая пища, отмечается нехватка белковой, а также дефицит продуктов, содержащих минеральные вещества и витамины. Почти каждый день в рационе питания учащихся присутствует картофель, на вто-ром-третьем месте стоит выпечка, свинина и говядина. Отмечено низкое число респондентов, имеющих еженедельно в своём рационе рыбу и каши из круп.
Установлено, что в наибольшей степени удовлетворены условиями своего проживания сельские подростки, а менее всего довольны - студенты; те респонденты, которые имеют отдельную изолированную комнату либо проживают в частном доме, как правило, высоко оценивают степень своей удовлетворенности КЖ.
В ходе психофизиологического обследования мы установили преобладание лиц с холерическим и сангвиническим типом темперамента как среди школьников, так и среди студентов. Достоверно доказано, что сангвиники и холерики в наибольшей степени довольны своей жизнью, обладают высокой степенью эмоциональной устойчивости.
Результатом исследования стала разработка системного подхода к изучению совокупности факторов, влияющих на качество жизни подростков и учащейся молодежи, с целью научного обоснования комплекса медико-психолого-педагогических и социально-экономических программ, направленных на сохранение здоровья и оптимизацию условий жизни школьников и студентов.
Таким образом, обсуждая полученные результаты, можно говорить о том, что широко распространенное в различных исследованиях использование международных опросников [3; 4; 9; 12; 14] позволяет решать целый ряд научных задач: например, сопоставлять показатели (по разным шкалам) КЖ подростков и молодежи разных социальных групп и стран, но не дает возможность выявлять и изучать цепь причинно-следственных связей между объективно воздействующими факторами, результатом их воздействия на здоровье, на качество и образ жизни с последующей субъективной оценкой респондентами степени воздействия факторов.
Методология, заложенная И.Б. Ушаковым и в дальнейшем развитая в целом ряде работ, позволяет выявлять и, как правило, доказывать причинноследственные связи трехчленной цепи: воздействующий фактор ^ ухудшение состояния здоровья и образа жизни по конкретным показателям ^ изменение степени удовлетворенности личности своей жизнью, т.е. снижение ее КЖ.
Заключение
Подводя итоги проведенного нами исследования, можно сделать следующие выводы:
1. Доказано, что формирование качества жизни старших школьников и учащейся молодёжи происходит под воздействием комплекса факторов, для оценки которых необходимо использовать как субъективные, так и объективные характеристики. Приоритетные факторы, влияющие на качество жизни подростков и учащейся молодёжи, следует разделить на два блока: общие, роль которых остается приоритетной в каждой из обследуемых нами возрастных групп, и частные, которые оказывают влияние в каждом индивидуальном случае.
2. Изучение всей совокупности факторов, формирующих качество жизни, должно осуществляться при оценке КЖ респондентов любой возрастной группы. Однако при этом обязательным условием достоверности является выявление и оценка тех факторов, которые для разных возрастных периодов, в данный момент времени (период проведения исследования) и являются наиболее существенными для формирования самооценки КЖ.
3. В основе медико-психолого-педагогических и социально-экономических программ сохранения здоровья и оптимизации условий жизни школьников и студентов должны лежать результаты, полученные в ходе комплексной оценки общих и частных (специфических) факторов формирования КЖ в их взаимосвязи и взаимозависимости.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Учет оценки качества жизни в градостроительстве [Текст] / С.В. Аргунов [и др.] // Государственная служба. - 2014. - №5. - С. 8-16.
2. Баранов, А.А. Медико-социальные проблемы воспитания подростков : монография [Текст] / А.А. Баранов,
B. Р. Кучма, Л.М. Сухарева. - М. : ПедиатрЪ, 2014. -388 с.
3. Качество и образ жизни студентов медицинского университета [Текст] / Е.Г. Блинова [и др.] // Современные проблемы науки и образования. - 2015. -№3. - С. 248.
4. Винярская, И.В. Показатели качества жизни здоровых подростков, проживающих в разных регионах России [Текст] / И.В. Винярская // Общественное здоровье и здравоохранение. - 2007. - №3. - С. 37-40.
5. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации в 2014 году» [Текст]. - М. : Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2015. - 206 с.
6. Давыдова, Е.В. Измерение качества жизни [Текст] / Е.В. Давыдова, А.А. Давыдов. - М. : РАН, 1993. -52 с.
7. Результаты гигиенической оценки здоровья современных школьников. [Текст] / Ю.В. Ерофеев [и др.] // ЗНиСО. - 2012. - №8(233). - С. 10-12.
8. Захаренко, А.С. Использование скрининг-оценки уровня здоровья школьников в профилактической работе учителя [Текст] / А.С. Захаренко, Н.В. Соколова, И.Г. Гончарова // Гигиена и санитария. - 2015. - №9. -
C. 14-16.
9. Качество жизни: сущность, оценка, стратегия формирования [Текст] / В.И. Денисов [и др.]. - М., 2000. -124 с.
10. Методы оценки качества жизни [Текст] / В.Р. Кучма [и др.]. - М.; Воронеж : ИСТОКИ, 2006. - 112 с.
11. Кучма, В.Р. Научно-методические основы охраны и укрепления здоровья подростков России [Текст] / В.Р. Кучма, И.К. Рапопорт // Гигиена и санитария. - 2011. - №4. - С. 53-57.
12. Качество жизни и медико-социальные особенности российских подростков, обучающихся в разных образовательных учреждениях [Текст] / В.Р. Кучма [и др.] // Бюллетень Восточносибирского научного центра Сибирского отделения РАМН. - 2013. -№3-1(91). - С. 75-80.
13. Современные направления профилактической работы в образовательных учреждениях [Текст] / В.Р. Кучма [и др.] // Гигиена и санитария. - 2014. - №6. - Т. 93. - С. 107-111.
14. Новик, А.А. Руководство по исследованию качества жизни в медицине [Текст] / А.А. Новик, Т.И. Ионова.
- СПб. : Нева; ОЛМА-ПРЕСС; Звездный мир, 2002. - 320 с.
15. Попов, В.И. Изучение и методология исследования качества жизни студентов [Текст] / В.И. Попов, Е.П. Мелихова // Гигиена и санитария. - 2016. - №9. - С. 879-884.
16. Рапопорт, И.К. Заболеваемость школьников и проблемы создания профилактической среды в общеобразовательных организациях [Текст] / И.К. Рапопорт, С.Б. Соколова, В.В. Чубаровский // Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья. - 2014. -№3. - С. 10-16.
17. Стратегия «Здоровье и развитие подростков России» (гармонизация европейских и российских подходов к теории и практике охраны и укрепления здоровья подростков) : коллект. монография [Текст] / А.А. Баранов [и др.]. - М. : ПедиатрЪ, 2014. - 112 с.
18. Сухарева, Л.М. Заболеваемость и умственная работоспособность московских школьников [Текст] / Л.М. Сухарева, И.К. Рапопорт, М.А. Поленова // Гигиена и санитария. - 2014. - №3. - Т. 93. - С. 64-67.
19. Ушаков, И.Б. Качество жизни и здоровье человека [Текст] / И.Б. Ушаков. - М.; Воронеж : Истоки, 2005.
- 130 с.
20. Ушаков, И.Б. Современные проблемы качества жизни студентов [Текст] / И.Б. Ушаков, Н.В. Соколова // Гигиена и санитария. - 2007. -№2. - С. 56-58.
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БАКАЛАВРОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА1
ХАРЬКОВСКИЙ Николай Петрович,
кандидат педагогических наук, декан факультета искусств и художественного образования;
ТУМАНЦЕВА Татьяна Анатольевна,
соискатель, кафедра теории, истории музыки и музыкальных инструментов,
Воронежский государственный педагогический университет
АННОТАЦИЯ. Рассматриваются подходы к определению понятий: «образовательное пространство», «творческий потенциал». Определены основы развития творческого потенциала бакалавра в образовательном пространстве педагогического университета и педагогические условия его развития. Освещены формы и методы развития познавательных способностей и творческого потенциала студентов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бакалавры педагогики, образовательное пространство, творческий потенциал, педагогические условия.
KHARKOVSKY N.P.,
Cand. Pedagog. Sci., Dean of the Faculty of Arts and Art Education;
TUMANTSEVA T.A.,
Postgraduate Student of the Department of Teory, History of Music and Music Instruments,
Voronezh State Pedagogical University
ENHANCING BACHELORS’ CREATIVE POTENTIAL IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY
ABSTRACT. The article considers the definitions of concepts "educational environment'' and "creative potential''. Principles of enhancing bachelor's creative potential in the educational environment of a pedagogical university and pedagogical conditions for its maintenance are determined. Forms and methods for elevating cognitive abilities of students are considered in terms of their creative potential development.
KEY WORDS: bachelors of education, educational environment, creative potential, pedagogical conditions.
Современный этап развития высшего образования в педагогических университетах предполагает, с одной стороны, формирование фундаментальных и широких знаний, а с другой стороны, овладение прикладными знаниями и навыками, ориентированными на возможность действовать в условиях педагогической деятельности в образовательных учреждениях.
В ряде исследований показано, что основой подготовки бакалавра является формирование у него такой профессиональной компетенции, как способность действовать в конкретных педагогических ситуациях профессионально и творчески [6]. При этом
Б.С. Гершунский указывает, что профессиональная компетентность определяется не только совокупностью знаний и индивидуальными качествами личности студента, но и его стремлением к самосовершенствованию, самообразованию, творческим и ответственным отношением к обучению [1].
Тем самым мы подходим к пониманию того, что для будущего бакалавра педагогического образования творчество является неотъемлемой частью профессиональной деятельности. В связи с этим развитие его индивидуальности и творческих способностей должно предполагать формирование в образовательном пространстве университета соответствующих структурных качеств его психики. К таким можно
Высшая школа играет особую роль в поддержке и развитии культуры, науки, форм социально-экономических отношений государства и общества. При этом постоянно растущие требования к уровню профессионализма выпускников привели к созданию системы непрерывного образования бакалавриата и магистратуры.
Важнейшей качественной чертой данной системы является отказ от узкой специализации с целью обеспечения открытости и мобильности образования, более полного учета индивидуальных особенностей личности студента.
В настоящее время педагогический университет как высшая школа является источником пополнения нашего общества педагогами высшей квалификации и рассматривается в качестве одной из важнейших составляющих всей системы общественного производства.
1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ (Проект № 17-0600437 «Развитие духовно-нравственной культуры в молодежной среде через приобщение к традициям православия», 2017 г.).
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», уровень «Бакалавриат») содержит информацию о том, что у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и профессионально-прикладные компетенции. Среди них наиважнейшей является такая профессиональная компетенция, как «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности» [15, с. 11].
Информация для связи с автором: tan-can@rambler.ru (Н.П. Харьковский)
отнести: креативность мышления, критичность, мотивирование, смыслотворчество, рефлексивность, коллизийность.
Обратимся к понятию «образовательное пространство». Несмотря на многочисленные подходы к определению этого понятия, в них можно выявить общий смысл. Сущностью «образовательного пространства» является совокупность ресурсов образовательного учреждения и межличностных отношений, которые устанавливаются в процессе взаимодействия между субъектами образования. Образовательное пространство университета представляет собой многоуровневую систему различных условий, которые обеспечивают оптимальные и эффективные параметры образовательной деятельности в ресурсном, целевом, процессуальном, содержательном и результативном аспекте. При этом образовательное пространство университета определяется гуманистической и инновационной направленностью, что способствует развитию внутренних ресурсов личности студента и является условием повышения его самостоятельности, учебной и социальной активности.
Анализ понятия «потенциал» показал его неоднозначность. Как правило, в философской литературе он определяется как совокупность имеющихся ресурсов, средств, возможностей. В психологии понятие «потенциал» соотносится с актуализацией, со стремлением личности познать смысл жизни, с потребностью человека к личностному росту и саморазвитию на основе перевода умений и знаний из потенциального скрытого состояния в конкретное действие. В педагогическом плане в содержание потенциала личности включаются не только наследственные факторы и природно-обусловленные способности, но и интеллектуальные, волевые и психологические качества, что способствует поступательному профессиональному и личностному развитию. Тем самым потенциал личности в самом общем виде представляет ресурсный фонд человека, который может быть задействован и актуализирован с целью достижения определенного результата. Но достичь этого можно только в том случае, если создать в процессе обучения определенные благоприятные условиях развития способностей студента.
В научной литературе «творчество» определяется в широком плане как творчество природы, атрибут материи. В узком аспекте творчество рассматривается как свойство общественной жизни, психический акт, форма деятельности. Творческая составляющая человека проявляется, по мнению ученых, в его способности и возможности творить мир и себя. При этом способность к творчеству у педагога понимается Е.А. Шмелевой «...как нацеленность на новизну, способность создавать инновационные образовательные продукты, интерес к освоению педагогического знания, любознательность, способность к вариативности решений, креативному мышлению, активный поиск новых средств и технологий обучения» [13, с. 12].
Таким образом, мы подходим к пониманию того, что творческий потенциал любого человека, в том числе студента педагогического университета, бакалавра, тесно связан с самореализацией, творческой активностью, устремлением к высоким нравственным идеалам и, конечно же, с одаренностью.
При определении понятия «творческий потенциал бакалавров» исходим из рассмотренных выше подходов к определению творческого потенциала личности. Таким образом, творческий потенциал личности включает в себя познавательный акмеологическиий, мотивационно-потребностный, деятельностно-организационный, интегративный и ресурсный компоненты. В целом он может рассматриваться как развивающаяся в образовательном пространстве университета система личностных способностей студента, побуждающая его к саморазвитию и творческой самореализации на основе социально значимой учебной деятельности. Мы согласны с Т.А. Ильяшенко в том, что творческий потенциал является объектом педагогической деятельности педагогов и представляет собой совокупность личностных качеств, задатков и способностей, формирующихся компетенций, направленных на достижение высокого уровня самоорганизации личности студента в будущей профессионально-педагогической деятельности [4, с. 5].
Анализ литературы показал, что творческий потенциал рассматривается с позиций проявления внутренней жизни человека в ходе его взаимодействия с социумом, с окружающими людьми и природой. В ходе анализа данного понятия мы выявили различные подходы к его пониманию [1; 11; 14]:
1. Творческий потенциал понимается как синтетическое качество, определяющее меру возможностей человека, осуществляющего творческую деятельность.
2. Творческий потенциал определяется как открытость ко всему необычному, развитое чувство нового.
3. Творческий потенциал понимается как система убеждений и знаний человека, на основе которых регулируется его деятельность.
4. Творческий потенциал трактуется как высокая степень развития мышления, оригинальность, гибкость, способность быстро переключаться в новых условиях деятельности, эффективно меняя при этом приемы и способы действия.
Тем самым структуру творческого потенциала бакалавра необходимо рассматривать как сложное и многогранное личностно-деятельностное образование, которое характеризуется такими показателями, как творческие возможности личности, открытость к восприятию нового, развитие системы способов деятельности и самовыражения, быстрота, гибкость и оригинальность мышления, компетенции, приобретенные в процессе образования и социализации студента.
Обращение к работе К.В. Петрова [11] позволяет уточнить сущность творческого потенциала. По мнению автора, творческий потенциал необходимо рассматривать с разных методологических позиций: с точки зрения субъектно-личностного подхода - как актуализацию взаимосвязи способностей личности и мотивации; с позиций системно-структурного подхода - представляет собой самоуправляемую и саморазвивающуюся систему; с точки зрения акмеологиче-ского подхода - проявляется в перспективности развития творческого начала по вертикали [11, с. 24]. Ученый отмечает, что в процессе развития творческого потенциала меняются и направления, и содержание как творческого потенциала, так и самой личности.
В последнее время, в связи с требованиями ФГОС 3+, существенно вырос интерес к развитию творческого потенциала будущих бакалавров. Учеными, преподавателями вузов ведется интенсивный поиск средств, методов, подходов, способствующих развитию творческого потенциала будущих бакалавров в условиях образовательного пространства высшего образовательного учреждения. В основе разрабатываемых технологий, связанных с решением затронутой проблемы, лежит организация образовательного пространства. Такое пространство, созданное на основе научно-методического и организационного подхода, представляет огромные возможности для развития творческой личности всех субъектов педагогического процесса - и студентов, и преподавателей.
Высокий уровень развития творческого потенциала будущих бакалавров может быть достигнут только за счет эффективного развития познавательных способностей студентов, формирования у них ведущих компетенций, создания условий для социализации и успешности обучающихся.
К.В. Петров обосновывает в качестве главного условия развития творческого потенциала обучающихся творческое взаимодействие всех участников образовательного процесса. Автор указывает, что «... в ходе такого взаимодействия создается ансамбль мотивации и способностей учащегося, который связан с его возможностями поступать нестандартно, "не так, как все", и при этом порождать новые продукты деятельности как для общества (объективная новизна), так и лично для себя (субъективная новизна)» [11, с. 24].
В ходе анализа литературы [9; 10; 12; 16] определено, что понятие «условие» в педагогическом аспекте рассматривается как совокупность причин, обстоятельств, каких-либо объектов, влияющих на функционирование и развитие целостного педагогического процесса. При этом по характеру воздействия можно выделить объективные и субъективные условия.
Первые обеспечивают функционирование педагогической системы. Вторые отражают внутренний потенциал субъекта педагогической деятельности, его целевые установки, мотивы и пр.
Если условия направлены на решение проблем образовательного процесса, то логично говорить о «педагогических условиях». Отметим, что единого понимания сущности и содержания данного понятия нет.
С точки зрения А.Я. Найн [8, с. 44-49], педагогические условия представляют собой совокупность объективных возможностей форм, содержания, средств, методов, а также материально-пространственной среды, которые направлены на решение поставленных задач. Н.М. Яковлева придерживается похожего мнения и определяет их как совокупность мер (объективных возможностей) педагогического процесса [17].
Несколько иначе подходит к определению «педагогических условий» Н.В. Ипполитова [5]. По ее мнению, педагогические условия представляют совокупность внутренних и внешних элементов педагогической системы, обеспечивающих её эффективное функционирование и дальнейшее развитие.
Тем самым, в отличие от А.Я. Найн, Н.В. Ипполитова в определении «педагогических условий» делает акцент на конструирование педагогической системы, в которой они выступают одним из компонентов.
Е.А. Ефимова определяет педагогические условия творческого потенциала («творческой самореализации» в определении автора) будущего бакалавра как успешность процесса формирования творческой самореализации, что обеспечивается такими педагогическими условиями, как поэтапное формирование будущих бакалавров на основе разработанных программ, развитие у студентов профессионального самосознания, организация их самостоятельной педагогической деятельности. С целью повышения познавательной деятельности Е.А. Ефимова предлагает следующие формы и методы обучения: метод профессиональных проб, лекции с проблемным изложением материала, эвристические беседы, ролевые и деловые игры, круглые столы, научноисследовательская деятельность, самостоятельная работа, тренинговые упражнения, квазипрофессиональная деятельность, метод проектов, направленные на формирование творческого потенциала бакалавров [3].
Подводя итог разным точкам зрения на сущность педагогических условий, выделим общее ее понимание в работах большинства ученых.
В рамках наших исследований обратимся к педагогическим условиям развития творческого потенциала бакалавров. К ним относятся организационные, дидактические, социально-педагогические и технологические условия [11, с. 27].
Организационные условия предполагают организацию деятельности студентов на принципах проблемно-интегративного подхода; создание творческой атмосферы; внедрение в учебный процесс инноваций; формирование профессиональной готовности преподавателей к развитию и практической реализации творческого потенциала.
Социально-педагогическими условиями развития творческого потенциала будущих бакалавров являются: взаимодействие всех участников образовательного пространства педагогического университета на основе субъект-субъектных отношений и совместной деятельности; развитие партнерских отношений; целенаправленное и систематическое создание в процессе обучения ситуаций успеха. Последнее, на наш взгляд, является обязательным условием развития творческого потенциала будущих бакалавров, так как ситуация успеха всегда стимулирует саморазвитие личности студента и подталкивает его к самообразованию.
Дидактическими условиями являются: интеграция учебных дисциплин, направленных на актуализацию потребности студента в развитии творческого потенциала; использование различных форм и средств учебного процесса, которые способствуют развитию творческого потенциала будущих бакалавров; самостоятельная работа; индивидуализация процесса обучения; выстраивание траектории личностного развития студента с направленностью на форимро-вание творческого потенциала; активизация научноисследовательской деятельности.
К технологическим условиям можно отнести особенности индивидуальной групповой и коллективной деятельности студентов с обозначением ответственности за результаты обучения; создание условий для их самоорганизации в процессе учебной деятельности.
Таким образом, одним из условий развития творческих способностей является организация в процессе подготовки бакалавров научно-исследовательской работы. Рядом ученых показано, что научно-исследовательская работа способствует развитию интеллектуальных способностей, самообразованию, умению реализовывать полученные результаты исследования в общеобразовательной практике. По мнению многих ученых [1; 2; 7; 14 и др.], результатом такого объединения выступает исследовательско-творческая культура педагога, где автор выделяет такие компоненты, как отношение к исследовательско-творческой деятельности; практическая готовность бакалавров к такой деятельности; овладение современными технологиями научно-исследовательской работы; стремление к самообразованию и самосовершенствованию своего исследовательско-творческого потенциала. Эффективными направлениями развития творческих способностей в процессе исследовательско-творческой деятельности, по мнению авторов, являются: формирование мотивационного компонента; создание в образовательном учреждении «инновационного поля» в форме школ молодого ученого и педагога, творческие лаборатории, школы инновационного педагогического опыта; наличие информационной научнометодической среды; обеспечение продуктивного взаимодействия всех участников образовательного пространства университета.
Развитие творческого потенциала студентов достигается за счет насыщения учебных занятий творческими проблемными заданиями и ситуациями, выполнение которых вызывает у них затруднения, а также деловыми играми, которые должны быть максимально приближены к школьной действительности. Это способствует включению студентов в активный и творческий поиск новых способов и подходов к решению поставленных педагогических задач, что в конечном итоге развивает их любознательность, педагогическую импровизацию, выдумку, фантазию, оригинальность действий, тем самым мобилизуя потенциальные возможности [2].
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что наличие творческого потенциала само по себе не является гарантией использования его на практике. Именно поэтому важно не только его сформировать, но и создать эффективные условия в рамках образовательного пространства педагогического университета для его реализации.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Гершунский, Б.С. Философия образования: учебное пособие для вузов и средних педагогических учебных заведений [Текст] / Б.С. Гершунский. - М. : Московский психолого-социальный институт; Флинта, 2008. - 428 с.
2. Григорьев, О.А. Педагогические условия формирования творческого потенциала студентов в учебновоспитательном процессе физкультурного вуза [Текст] / О.А. Григорьев // Культура физическая и здоровье. -Воронеж, 2008. - №2(16). - С. 22-25.
3. Ефимова, Е.А. Формирование творческой самореализации будущего педагога : автореф. дис. ... канд. пед. наук [Текст] / Е.А. Ефимова. - Новокузнецк, 2007. - 26 с.
4. Ильяшенко, Т.А. Педагогические аспекты развития творческого потенциала школьника в гимназическом образовательном пространстве : автореф. дис. ... канд. пед. наук [Текст] / Т.А. Ильяшенко. - Смоленск, 2008. -24 с.
5. Ипполитова, Н.В. Теория и практика подготовки будущих учителей к патриотическому воспитанию учащихся : дис. ... докт. пед. наук [Текст] / Н.В. Ипполитова. - Челябинск, 2000. - 383 с.
6. Камоза, Т.В. Концепция общепрофессиональной подготовки бакалавра : автореф. дис. ... докт. пед. наук [Текст] / Т.В. Камоза. - Чита, 2010. - 42 с.
7. Михайлов, А.Ю. Развитие творческого потенциала будущего педагога в образовательном процессе вуза : автореф. дисс. ... канд. пед. наук [Текст] / А.Ю. Михайлов. - Волгоград, 2006. - 24 с.
8. Найн, А.Я. О методологическом аппарате диссертационных исследований [Текст] /А.Я. Найн // Педагогика. -1995. - № 5. - С. 44-49.
9. Немов, Р.С. Психология : словарь-справочник : в 2 ч. [Текст] - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - Ч. 2. - 352 с.
10. Ожегов, С.И. Словарь русского языка: ок. 53000 слов [Текст] / С.И. Ожегов; под общ. ред. Л.И. Скворцова. -24-е изд., испр. - М. : Оникс»; Мир и образование, 2007. - 640 с.
11. Петров, К.В. Акмеологическая концепция развития творческого потенциала учащихся : автореф. дис. . докт. пед. наук [Текст] / К.В. Петров. - М., 2008. - 64 с.
12. Полонский, В.М. Словарь по образованию и педагогике [Текст] / В.М. Полонский. - М. : Высшая школа, 2004. - 512 с.
13. Шмелева, Е.А. Развитие инновационного потенциала личности в научно-образовательной среде педагогического вуза : автореф. дис. . докт. психол. наук [Текст] / Е.А. Шмелева. - Нижний Новгород, 2013. - 51 с.
14. Яковенко, И.М. Педагогическое сопровождение развития творческого потенциала будущего педагога в условиях вуза : автореф. дис. . канд. пед. наук [Текст] / И.М. Яковенко. - Петропавловск-Камчатский, 2006. -24 с.
15. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки
44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 4 декабря 2015 г. № 1426) [Электронный ресурс]. - (Режим доступа:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71200970/).
16. Философский энциклопедический словарь [Текст] / под ред. Л.Ф. Ильичев [и др.]. - М. : Сов. энциклопедия, 1983. - 840 с.
17. Яковлева, Н.М. Теория и практика подготовки будущего учителя к творческому решению воспитательных задач : дис. . докт. пед. наук [Текст] / Н.М. Яковлева. - Челябинск, 1992. - 403 с.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ НА ПРИМЕРЕ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА_
ЗАРИДЗЕ Геннадий Владимирович,
настоятель Покровского храма, с. Отрадное Воронежской области
АННОТАЦИЯ. Автор на основе анализа деятельности православного прихода храма раскрывает многообразие направлений образовательной деятельности Русской Православной Церкви.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образовательная деятельность, направления и формы образовательной деятельности православного прихода храма.
ZARIDZE G.V.,
Senior Priest of the Church of Intercession,
Otradnoe village, Voronezh region
EDUCATIONAL ACTIVITY OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH ON THE EXAMPLE OF AN ORTHODOX CHURCH PARISH
ABSTRACT. The author, based on the analysis of the activities of an orthodox parish of a church, provides a diversity of educational activities of the Russian Orthodox Church.
KEY WORDS: educational activities, directions and forms of educational activity of the Orthodox parish of a church.
Одна из особенностей начала XXI века: более активное вхождение православной церкви в общественную жизнь современной России, в сферу образования.
Обращаясь к историко-педагогическому наследию России, надо непременно вспомнить Петра Федоровича Каптерева, выделившего три главных периода в развитии русского образования: церковный, государственный и общественный1. Данная периодизация стала известной и рассматривается как этапы развития отечественной педагогики.
П.Ф. Каптерев использует такие принципиально важные для философско-педагогического анализа развития образования термины, как «педагогическое самосознание», «орган педагогического самосознания», «духовная атмосфера», «духовная ниша народа». Он не только подробно разъясняет содержательное наполнение этих терминов, но и подчеркивает: «Каждый вступающий в педагогический процесс деятель подходит к народному образованию со своими особенными задачами и требованиями, проводит свои взгляды, свое миропонимание, вследствие чего преобладание того или другого деятеля в педагогическом процессе сообщает особый вид и характер всей педагогии данного времени. Преобладающий деятель создает свой собственный круг идей, свою духовную атмосферу, и этот круг идей, эта атмосфера и составляют преимущественную духовную пищу народу в данное время»2.
Что важно сегодня для нас? Каждый из этих деятелей - церковь, государство, общество - способен к «бесконечному развитию»; интерес представляет периодизация не педагогики, а педагогического самосознания; всё это имеет принципиальное философоко-педагогическое значение и для понимания истории отечественного образования, и для понимания его современного состояния.
Стратегические цели образования тесно связаны с «бесконечным развитием» церкви, государства и общества, с развитием педагогического самосознания и формулируются сегодня большинством специалистов так:
«- преодоление социально-экономического и духовного кризиса, обеспечение высокого качества жизни народа и национальной безопасности;
- восстановление статуса России в мировом сообществе как великой державы в сфере образования, культуры, науки, высоких технологий и экономики;
- создание основ для устойчивого социальноэкономического и духовного развития России».
«Бесконечное развитие» церкви, государства и общества возможно благодаря цели - «осознанный образ предвосхищаемого полезного результата, на достижение которого направлено действие челове-ка»3. Основой формирования цели человека является его деятельность, направленная на преобразование окружающего мира.
Деятельность как философско-педагогическое понятие - это активное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе которого человек выступает как субъект, целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяющий таким образом свои потребности.
Обнаружен парадокс современного гуманитарного знания: в Федеральном законе РФ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» используется
3 Белозерцев Е.П. Философко-педагогическое наследие Отчего края : монография / Е.П. Белозерцев. - Воронеж, 2015. - 311 с.
Известия ВГПУ, №2(275), 2017 ' Педагогические науки
• Российское образование сегодня
фундаментальное словосочетание: «Образовательная
деятельность - деятельность по реализации образовательных программ». В различных научных и публицистических текстах, выступлениях официальных лиц, в нормативных документах стало привычным обращение к данному словосочетанию, однако в академических словарях понятие «образовательная деятельность» отсутствует.
Современные философы образования полагают, что содержательное наполнение «образовательной деятельности» возможно в контексте антропологического, историософского, историко-педагогического, средового подходов и обозначает исходные представления, на основе которых пытаются реконструировать интересующее нас понятие.
Существующая сегодня определенная инфантильность по отношению к философским, духовнонравственным основаниям образования объясняется преимущественной ориентацией на рационализированный выбор средств, приемов, форм образовательной деятельности, отсутствием сколь-нибудь продуманных мер, побуждающих педагогов к осмыслению образовательной деятельности как сферы морального творчества, смысложизненного, мировоззренческого самоопределения.
Российскому обществу ещё предстоит осмыслить, понять все трагические последствия секуляризованной России, секуляризованного образования, секуляризованного человека. Реформы последних лет, так называемые инновации в образовании и педагогике, продолжают, усугубляют процесс секуляризации: образование для человека без духовной составляющей; педагогика без связей с идеями святоотеческой педагогики и в отрыве от опыта народной педагогики.
Обращаясь к культурному наследию России, вникая в исторические, философские, археологические, фольклорные, литературные педагогические произведения, приходим к выводу о том, что не обращать внимания на религиозный компонент нашего бытия не просто ошибочно, но и методологически не верно, более того, невежественно. Любые варианты аргументации, исключающие веру из тем научной дискуссии, приводят к неправильным выводам, ложным подходам и неадекватным методам, что свидетельствует о секуляризованном знании.
Религия и философия по отношению к педагогике занимают особую позицию в гуманитарном знании, поскольку педагогике, в сущности, нужно философское и религиозное обоснование, то есть связывание с целостной жизнью. Педагогика, привитая к религиозному корню, вообще к духовной традиции культуры, благодаря своей внутренней бытийной стабильности, заведомо избавлена от множества антиномий, неопределенностей и несуразиц, связанных с обоснованием ведущих категорий. Православное христианство предлагает нам целостный взгляд на человека, его деятельность, культурно-образовательную среду, взаимодействие человека с окружающей средой.
Мы имеем богатейшее наследие святых отцов церкви, любомудров, религиозных философов, ученых различных отраслей знаний. Оно, к великому сожалению, существует объективно независимо от нас, не узнанное большинством и не полюбившееся многим из нас.
Наследие может быть каким угодно разнообразным и богатым, но если мы о нем лишь знаем и помним, но не обращаемся к нему, не востребуем его, оно все равно будет лежать мертвым грузом. Жизнь, культура, образование, которые нам предшествовали, становятся живой традицией лишь тогда, когда мы в них действительно нуждаемся.
Игумен Синайской обители преподобный Иоанн (ок. 650 г.) написал книгу «Лествица, возводящая в
Небо» (М.: Лествица, 1997), за что и был назван Иоанном Лествичником. Книга преподобного Иоанна Лествичника раскрывает основные темы христианской нравственности, конкретные обязанности христианина, 11 различных форм проявления христианской добродетели; некоторое откровение о человеке, его грядущей судьбе, о церкви.
Кроме И. Лествичника, религиозно-педагогическое наследие представляет целая плеяда замечательных авторов (Максим Грек, Митрофан Воронежский, Тихон Задонский, Е. Болховитинов, И. Херсонский, Иосаф Белгородский, Симеон Полоцкий и др.), невостребованных в мирской практике, однако их учительная, душеполезная литература позволяет нам, сегодня живущим, создавать и во многом реставрировать образ педагога, глубже понимать образовательную деятельность.
Во второй половине ХХ в. появляются работы аналитического характера, в которых выделяются онтологические, гносеологические, аксиологические и антропологические основания педагогических систем и теорий. Важным результатом данных исследований стало различие педагогических систем не только исходя из образовательных технологий, но и с опорой на концептуальные основания. Однако вопрос о том, как онтологические, гносеологические, аксиологические и антропологические основания педагогических систем опосредуются в образовательной деятельности, остается пока открытым.
В конце XX-XI вв. тема философии образования занимает особое место в исследованиях гуманитариев. Философы разрабатывают цели, педагогические понятия, методологические принципы и т.п., а педагоги на их основе - нормы образовательной деятельности.
Образовательному сообществу помогает разобраться с важными вопросами Воронежская философскопедагогическая школа (Фетисов В.П., Варава В.В., Надточий И.О., Белозерцев Е.П., Остапенко В.С. и др.).
«В основании философского импульса лежит вообще воля к существованию в бытии, и затем воля к осуществлению себя в культуре, которая, прежде всего, проявляется как чистое философское удивление, благоговение или философское отчаяние, стенание, вопрошание. В философии не возможен вопрос о том, "что первично", ибо первична сама философия со всеми своими вопросами»4.
Сторонники нравственной философии сформулировали смысл современной педагогики: «Воля к существованию в бытии» означает стремление понять человека, его состояние в реальной жизни, повседневной окружающей действительности, в ходе деятельности «воля к осуществлению себя в культуре» подразумевает понимание человеком того, к какой культуре он принадлежит, какими нравственными ценностями она располагает, носителем, хранителем, транслятором каких ценностей является лично он?
И потому в педагогике возможен вопрос о том, «что первично в образовании?». Ответ на данный вопрос таков: первичен человек, который удивляется, изумляется, благоговеет или отчаивается, стенает, вопрошает; человек развивающийся, ибо человек -смысл, цель, результат и субъект истории, культуры и образования.
Опираясь на историко-культурное наследие и мнение современников, Е.П. Белозерцев обобщенно утверждает: «Образовательная деятельность осуществляется, если деятельность педагога обретает ценностно-смысловой мировоззренческий характер; если устанавливается взаимная сопричастность обучающего и обучающихся, в которой осуществляется самоопределение каждым себя через утверждение бытия другого; если профессиональная деятельность выходит за рамки "предметной" компетентности в мир истории, культуры и становится гуманитарной практикой; когда субъект образования обращается к другому за со-мыслием, со-чувствием, со-действием»5.
Учитывая фундаментальное понятие образования как историко-культурного наследия, объемность содержания КОС, образовательную деятельность Е.П. Белозерцев представляет в трехмерном измерении.
«I. Внешняя образовательная деятельность, цель которой - изменение окружающего мира, субъектом которого является человек; результат - прежде всего материален: деятельность, реализуемая в контексте истории, культуры и быта региона КОС, провинции; сохранение наследия, трансляция ценностей наследия от одного поколения к другому; специальная деятельность по включению молодого человека в жизнь общества, региона, среду вуза, факультета.
II. Внутренняя образовательная деятельность, цель которой - духовное производство, субъектом которой является человек, результат - идеален, отражается и в материальных формах, явлениях: способ становления и развития духовно-нравственной и культуросообразной составляющей развивающегося человека; опыт личностного, ценностного отношения к наследию, сосредоточенному в КОС региона, города, вуза, факультета, средство формирования и поддержки "человеческого фактора", "человеческого в человеке".
III. Структура образовательной деятельности: совокупность различных видов деятельности; организации региона как субъекты образовательной деятельности; характер, стиль управления образовательной деятельностью в масштабах КОС региона, города вуза, факультета».
Увидеть, почувствовать, понять и оценить результаты образовательной деятельности, по мнению Е.П. Белозерцева, мы можем благодаря трем основным показателям:
- состояние учащего и учащегося, субъектов образования, жителей региона, членов профессионального сообщества;
- наличие определенной формы, конкретнореального стиля общественной практики, принятой большинством в КОС провинции;
- установление нормы образовательной деятельности в масштабах КОС организации, населенного пункта, города, региона, образовательного сообщества. Норма образовательной деятельности, по мнению В.И. Слободчикова , - это не то среднее, а лучшее, что возможно в конкретном возрасте для ребенка в предлагаемых обстоятельствах. Профессиональная задача педагога и состоит в том, чтобы понять, определить и использовать различные условия для организации, функционирования и совершенствования нормальной образовательной деятельности6.
Мы разделяем такое понятие «образовательная деятельность»; оно возвращает нас к образованию как к историко-культурному наследию; возвеличивает по достоинству человека, ибо он - смысл, цель, субъект, конечный результат образования. Данное понятие подчеркивает фундаментальный характер отечественного образования, способствует формированию бытия человека во времени и среде и потому целиком и полностью относится к православному приходу как соборному субъекту образовательной деятельности.
Отличительной особенностью образовательной деятельности Русской Православной Церкви является ее направленность на достижение образовательного идеала - непрерывное духовное совершенствование во Христе при содействии благодати Божией посредством получения православного религиозного образования в рамках светского образования, обучения религии и религиозного воспитания, включающих изучение вероучительных и нравственных истин, церковного Предания в органичном сочетании теоретического усвоения богатства христианского наследия и его практического воплощения в жизни каждого члена Церкви, приобретения личного духовного опыта богосознания. Русская Православная Церковь стремится охватить все этапы становления и развития в жизни человека, полагая образование общественным благом, обеспечивающим преемство духовного и культурного развития народов. В связи с этим существует многообразие направлений образовательной деятельности Русской Православной Церкви.
«Образовательная деятельность Церкви, являясь одним из способов сохранения и передачи православного учения и традиции, включает в себя: преподавание основ православного вероучения; духовнонравственное воспитание; профессиональную или предметную подготовку.
Эта деятельность осуществляется на уровне высшего, среднего профессионального и общего образования в форме образовательных программ, преподавания отдельных дисциплин и модулей воспитательной активности, просветительского служения»3.
«Церковь действует в системе собственно церковных (учрежденных Церковью или при ее участии) образовательных организаций, а также в государственных и негосударственных (внецерковного подчинения) образовательных организациях всех уровней и типов, если они изъявляют такое желание. В рамках церковно-государственного и церковно-обшественного партнерства Церковь выступает гарантом аутентичности связанных с Православием мировоззренческой, воспитательной и предметной (профессиональной) составляющих национальной системы образования».
Образовательная деятельность Русской Православной Церкви осуществляется в различных направлениях обучения религии и религиозного воспитания, создания собственных образовательных организаций общего образования, включая дошкольное, организаций среднего профессионального высшего образования, дополнительного образования иных организаций Русской Православной Церкви, в формах обеспечения получения православного религиозного образования и/или компонента православного религиозного образования в рамках светского образования, а также в многообразных формах церковногосударственного и церковно-общественного взаимодействия в сфере образования.
С учетом такого понимания образовательной деятельности за последние годы при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы (с. Отрадное Новоус-манского района Воронежской области) сложилась совокупность различных направлений деятельности. Для прихожан храма это обозначает принципиальную общность образовательных действий или более охватывающее единство мировосприятия, мировоззренческих взглядов, путей, способов, средств, форм отображения повседневной жизни.
Направление первое
Воскресная школа (младшая, средняя и старшая воскресные учебно-воспитательные группы). Занятия с воспитанниками воскресной школы проводятся
3 Образовательная концепция Русской православной Церкви. Проект опубликован 14 марта 2016 года. - (msobor.ru).
еженедельно. Для воспитания и разностороннего развития детей работает коллектив специалистов для проведения занятий по Закону Божию, церковнославянскому языку, церковному пению и музыке, по различным видам прикладного искусства. Дети изготавливают различные поделки, изделия, игрушки, украшают иконы и др. Все их работы выставляются на стендах, на благотворительных ярмарках и дарятся по различным случаям (в праздники, дни Ангела, гостям, при осуществлении социального служения, дел милосердия и т.д.). Созданы творческие детские коллективы по различным направлениям: ансамбль «Колоколики», детская редакция, группа дрессуры и постановки выступлений «Театр зверей» и другие. Ежегодно проводятся на приходе: игра-викторина «Что? Где? Когда?», выездные уроки детского Клуба любителей чтения «КЛюЧ» на реке Усманка, где происходит обсуждение любимых книг, литературная викторина (победителям призы - книги).
Детский клуб «Теплый дом» (дошкольное воспитание, дополнительное образование). В группе дневного пребывания с детьми от 3 до 6 лет проводятся занятия по основам православной веры, рисованию, пению, музыке, ритмике, прикладному искусству, рукоделию, общеобразовательные занятия, выпечка пасхальных куличей, рождественских пряников. С участием детей организуются праздничные концерты, утренники, инсценировки сказок и семейных спектаклей на православную тематику (например, «Рождественская сказка», «Пасхальный теремок» и др.), экскурсии по Воронежской области в Графский заповедник, паломничества в Толшевский монастырь, к святым источникам и другим святыням. Дети регулярно (3 раза в неделю) причащаются Святых Христовых Таин в детском храме вмч. Георгия Победоносца.
Детская редакция газеты «Солнечный лучик». Подготовка статей, сообщений, интервью, иной информации, рисунков, фотографий для публикации, компоновка материала и верстка газеты. Все материалы для газеты созданы детьми различного возраста на приходе воскресной школы, они имеют православную и познавательную направленность. В процессе работы над газетой дети получают навыки деятельности журналиста, дизайнера-верстальщика и издателя. Также детской редакцией подготавливались специальные выпуски газеты: «Зимние дни в Отрадном», «Лето в Отрадном» о пребывании на отдыхе и реабилитации детей из Луганской области в детском приюте Покровского храма.
Детская видеостудия «Журавлик». Проведение детьми съемок, репортажей, монтаж видеофильмов и мультфильмов (в том числе изготовление детьми кукол, фигур из пластилина, из бумаги для «театра теней»). Например, видеосюжет о прадедах-ветеранах к 70-летию празднования Дня Победы, видеорепортаж «Последний звонок», монтаж видеозаписей праздничных сказок-инсценировок на приходе, видеофильмы «Ералаш», «Белый цветок в Отрадном», «Ансамбль "Колоколики" на фестивале в Санкт-Петербурге», мультфильмы: «Курочка Ряба», «Солнце» «С днем рождения, бабушка!», «Пасхальный колобок», «Дивный мир», «Чудо-речка» и другие работы.
Дети принимают участие в занятиях и мастерклассах с привлечением специалистов-профессиона-лов (например, мастер-класс «Пластилиновая мультипликация» у Алексея Меринова, студия «Пилот»), получают навыки кино-, видеооператора, мультипликатора, режиссера и др.
Проводятся совместные занятия с детьми из Луганской области, ребята из детской киностудии «Журавлик» сняли мультфильм «Ералаш», пластилиновые мультфильмы-загадки по мотивам известных сказок, был организован просмотр детьми их работ.
Каждый ребенок получает на память диск с фотографиями и видеоработами.
Детская творческая студия «Благолепие». Проводятся занятия по изготовлению поделок и изделий из глины (гончарное дело), керамики, которые регулярно выставляются на благотворительных ярмарках и используются в качестве подарков в делах благотворительности и милосердия.
Детская швейная мастерская. Оборудован швейный цех в зданиях детского приюта, с детьми проводятся занятия по кройке и шитью.
Детский коллектив дрессуры и постановки выступлений «Театра зверей». В задании приюта оборудовано специальное помещение для содержания питомцев «Театра зверей» (петух, голуби, совы, павлин, фазан, енот, хорьки, белки, морские свинки, лиса, кошки, собаки) и занятий с ними. Выступления «Театра зверей» очень нравится детям и взрослым, «Театр зверей» задействован практически во всех мероприятиях прихода, праздничных концертах, детских утренниках, при посещении социальных учреждений: детских домов, специальных коррекционных школ, реабилитационных центров, домов инвалидов и престарелых, больниц и образовательных учреждений.
Участие детей (творческих детских коллективов) и молодежи в различного уровня православных фестивалях, конкурсах, олимпиадах, викторинах, благотворительных мероприятиях, делах милосердия является стимулом для повышения мастерства, закрепления полученных знаний и навыков, а также формой воспитания нравственных качеств и добродетелей христианина (любви, дружбы, сострадания, милосердия жертвенности).
Летний детский оздоровительный православный лагерь «Солнышко» (старшая и младшая группы «Свечка» и «Колоколики»). Работает в дни летних школьных каникул совместно с СОШ п. Отрадное, организован на постоянной (ежегодной) основе: дети участвуют в трудовой деятельности Храма - выращивают цветы, овощи; проводятся разнообразные занятия при храме совместно с преподавателями СОШ и воскресной школы; совершаются поездки по святым местам Воронежской области, встречи и беседы с интересными людьми - православными литераторами, музыкантами, художниками, а также священнослужителями.
Молодежный отдел. Еженедельные беседы на духовные и морально-нравственные актуальные темы, просмотр фильмов, чтение литературы, обсуждение; проведение разных мероприятий по благотворительности, волонтерству; помощь на приходе по работе с детьми, походы на байдарках и т.д. Создание (написание) сценария, постановка (инсценировка) и показ спектаклей-сказок, приуроченных к празднику Пасхи, Рождества Христова, Покрова Пресвятой Богородицы («Колобок», «Емеля и Снежная королева», «Бременские музыканты» и др.). Издание молодежной газеты «Начни с себя». Православный ансамбль духовной песни «Лампада».
Катехизаторские (регулярный ЦИКЛ в течение года), огласительные (перед Крещением) беседы-занятия на приходе. Проведение бесед и проповедей на приходе среди прихожан на актуальные темы (о нравственности, целомудрии, браке и семье, о светском и православном образовании, о любви к Родине, антиабортная тематика, о вредных привычках и пристрастиях, о сектах и т.д.).
Еженедельно по субботам проведение катехизаторских бесед перед совершением Таинства крещения (раздача аудиозаписей «Беседы перед Крещением», духовной литературы).
Направление другое
Участие в образовательной деятельности светских образовательных и иных организаций. Проведение бесед-уроков на различные социально-значимые культурно-просветительские и духовно-нравственные темы с детьми школ п. Отрадное, с. Выкрестово, с. Ба-бяково (еженедельно в рамках образовательного процесса), в «Новоусманском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних» с. Бабяково (ежемесячно). Перед началом учебного года проводится ежегодная акция «Дарим и обмениваемся учебниками» (добровольные пожертвования учебников и детских книг прихожанами храма).
Проведение циклов православных бесед-лекций с учителями общеобразовательных школ (преподавателей курса ОПК, истории, литературы) Новоусманского района Воронежской области, с иными преподавателями в рамках дополнительного образования квалификации в ФБГОУ «Институт развития образования».
Проведение цикла православных бесед-лекций со студентами и преподавателями вузов (ВГУ. ВГМУ, ВУНЦ ВВС ВВА, ВГАУ, ВГПУ).
Пятый год продолжает свою деятельность «Православный образовательный центр» при филологическом факультете ВГУ. В центре реализуются две образовательные программы: «Беседы на православные темы» и «Духовные традиции в русской литературе и искусстве».
Проводятся отдельные беседы, лекции на актуальные темы в вузах Воронежа, Липецка, Белгорода. Например, востребованы лекции на такие темы, как «Православный взгляд на геополитику и вызовы современного общества», «Нужна ли семья в современном мире?» и т.д.
Проводятся беседы-лекции с врачами на базе медицинских учреждений со слушателями ЦДO (ВБК) Московской Духовной Академии (2 раза в год).
Направление следующее
Социально-образовательное и благотворительное служение. Регулярное посещение детских домов, специальных коррекционных школ, реабилитационных центов, домов инвалидов и престарелых, больниц и проведение бесед о смысле жизни, здоровом образе жизни, о вере в Бога, о православной вере и церковных Таинствах; оказание благотворительной помощи духовной литературой, продуктами питания, одеждой, канцелярскими принадлежностями, учебными пособиями. Например, осуществляются постоянные контакты, встречи с Центром социальной помощи для детей и женщин, оказавшихся в кризисной ситуации (КУ ВО ОЦСПСД «Буревестник»), «Новоус-манским социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних» в с. Бабяково, «Новоусманской специальной (коррекционной) общеобразовательной школой-интернатом VIII вида», «Новоусманским домом для престарелых и инвалидов, XII-VIII вида», «Домом для детей-сирот с ОВЗ», «Домом для лиц, вернувшихся из мест лишения свободы», окормляе-мым Воронежской областной общеобразовательной организацией содействия социальной реабилитации осужденных; Областной психиатрической больницей (с. Орловка).
Кризисный центр-приют «Покров» (для матерей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации). Расположен в специально построенном приходском жилом доме, состоящем из пяти-, шестикомнатных квартир. В настоящее время принимаются матери с детьми из пострадавших от военных действий городов на территории Украины. Проживают на полном обеспечении за счет средств прихода, включая питание, обучение, лечение, социальную реабилитацию.
Принимаются различные группы по 40-45 человек на срок до 90 дней неоднократно, в течение всего года на полное обеспечение с проживанием в здании приюта. С детьми проводятся разнообразные мероприятия: занятия по различным видам прикладного искусства, выступления театра зверей «Кошка в лукошке», развлекательных программ с участием аниматоров, игровая викторина с участием детей «Что? Где? Когда?», занятия клуба любителей чтения «КЛюЧ», дети участвуют в инсценировке сказок (к праздникам Рождества Христова, Пасхи, Покрова Богородицы), концертах, в работе видеостудии «Журавлик» и детской редакции газеты «Солнечный лучик», проводятся выездные экскурсии различной направленности (заповедники, зоопарк, океанариум, исторические места Воронежа, святыни Воронежской земли и т.д.), встречи и беседы с интересными людьми, православными литераторами, музыкантами, художниками, а также регулярные беседы со священнослужителями. Дети участвуют в церковной жизни храма.
Направление иное
Издательская и информационно-просветительская деятельность. Газеты: приходская газета «Покров», молодежная газета «Начни с многодетных», газета «Солнечный лучик», газета православного общества молодых семей «Раз, два, три, четыре, пять...» (распространяется бесплатно). Различные просветительские стенгазеты силами прихожан (с. Отрадное, с. Бабяково). Журнал «Международный научный вестник» (Вестник объединения православных ученых), книги и сборники научных трудов православных ученых.
Культурно-просветительский радиоканал - «Радио Благовестие» (эфирное вещание на частоте 72,55 Мгц и интернет-вещание на сайте: http://radio-
blаgоvеstiе.ru) создан по инициативе и при информационной поддержке МПОО «ОПУ». Тематические программы («Слово архипастыря», «Родная речь», «Лекарство от греха», «Воронеж. Родина. Любовь», «Своя дорога», «Епархиальный вестник» «Великая Россия - великая литература», «Молитвы русских поэтов», «Новости» и др.), выступления ученых, интересных людей, информация о деятельности Объединения, уникальные подборки музыки служат расширению православного информационного поля и знакомят слушателей с богатейшим культурным наследием России.
Создание цикла бесед о православной вере, аудиозапись на дисках, размещение на сайте в сети Интернет и благотворительное распространение дисков (на приходе, при проведении различных мероприятий, в т.ч. в образовательных организациях всех уровней): «Беседы перед Крещением» (о смысле жизни, огласительной и катахетизаторской направленности), «Беседы о нравственности, браке и семье», «Толкование на притчи Нового завета и десять заповедей Ветхого Завета», «Переход» (беседы о смерти, мытарствах, вечной жизни, Страшном Суде).
Создание цикла песен-проповедей и стихотворений о православной вере, аудиозапись на дисках, размещение на сайте в сети Интернет и благотворительное распространение дисков (на приходе, при проведении различных мероприятий): «Странник»
(сборник №№ 1-8, №№ 9-16), издание стихотворений «Странник».
Направление, раскрывающие наиболее полно единство мировосприятия, мировоззренческих взглядов в процессе образовательной деятельности участников Межрегиональной просветительской общественной организации «Объединение православных ученых».
Межрегиональная просветительская организация «Объединение православных ученых» (далее МПОО «ОПУ» или ОПУ) была создана по благословлению митрополита Воронежского и Лискинского в 2012 году при Покровском храме и в настоящее время включает в себя около 600 человек, которые объединены в 20 региональных отделений в России и 10 зарубежных отделений. Определено в целом направление содержания, выработана структура и методика проведения ежегодных международных научных конференций «Православный ученый в современном мире» (проведено 5 конференций, в том числе в Греции, Польше, Беларуси), международных молодежных форумов «Нравственные императивы в праве, образовании и культуре» (проведено 4 форума). В качестве площадок конференций, форумов используются различные светские и духовные образовательные и культурные учреждения в России и за рубежом. В качестве базы проведения научно-просветительских мероприятий ОПУ выступало более двух десятков различных учреждений. В 2016 году было проведено более 80 мероприятий духовно-просветительского характера. Цель данных мероприятий состоит в консолидации усилий научно-педагогической общественности, нацеленных на оздоровление нравственного климата в науке, образовании, культуре и политике; выработке единых позиций по основным проблемам формирования духовно-нравственных оснований общества на базе православного мировоззрения; создании возможности обращения к широкой аудитории, распространения православных ценностей в молодежной среде; разработке концептуальных документов, содержащих в себе продуктивные идеи и конструктивные предложения по формированию федеральных программ в сфере образования, воспитания, культуры, правового и экономического состояния общества.
Представим более подробно образовательную деятельность МПОО «ОПУ» в 2016 году, которая осуществлялась в рамках уставной деятельности и была направлена на решение ряда фундаментальных задач, среди которых:
- расширение круга людей, входящих в объединение православных ученых, широкое привлечение молодежи, развитие всех духовных способностей и нравственного совершенствования членов Объединения;
- формирование программы духовно-нравственной культуры студенческой молодежи с использованием авторских практик и методик;
- организация и проведение цикла конференций международного, всероссийского, регионального уровней, рассматривающих отдельные проблемы духовнонравственного воспитания современного общества:
- разработка практик работы со студенческой молодежью для сохранения и формирования традиционных духовных ценностей, направленных на укрепление любви к Родине, уважения к семье и материнству, поддержание в студенческой среде приоритетов порядочности, честности, ответственности за порученное дело, освоение нравственного закона, системы понятий духовно-нравственной жизни;
- подготовка и издание монографий, учебников, учебно-методической литературы в области духовнонравственной культуры; деятельность образовательных учреждений, учреждений социальной защиты населения, культуры, организаций по делам молодёжи, реализующих программы духовно-нравственного воспитания детей, молодёжи, взрослого населения.
Образовательная деятельность МПОО «ОПУ» предусматривала реализацию поставленных задач в рамках ряда направлений:
- проведение массовых культурно-образовательных мероприятий, способствующих формированию самосознания молодых людей и приобщению подрастающего поколения к отечественным духовно-нравственным ценностям, укреплению института семьи, основ семейного воспитания, возрождению традиций многодетности, семейственности (культурно-ценностный блок);
- создание специфической творческой среды, в которой участники проекта могли бы раскрыть для себя понимание личности человека как образа и подобия Божьего и суть таких христианских добродетелей, как благочестие, мужество, милосердие, верность, преданность, целомудрие, семейственность, многодетность;
- организация круглых столов, бесед, встреч с представителями педагогической общественности (учителями, руководителями образовательных учреждений, родителями) по обобщению и распространению опыта духовно-нравственного становления личности в образовательном процессе школы, вузов, ссу-зов (ценностно-образовательный блок);
- в рамках модуля «Отечество земное» (патриотический блок), целью которого является привитие любви к Родине, воспитание интереса к ее истории, формирование личностного идеала, ориентирующего современного молодого человека на созидательную деятельность и служение Отечеству, Богу и ближнему;
- важным направлением деятельности является воспитание ценностного отношения к православному культурному наследию (богословие, история Ветхого и Нового Заветов, жития святых, православные праздники), знакомство с православным богослужением, участие в нем, беседы и встречи с духовенством, паломнические поездки (блок «Святыни Православия»);
- миссионерская и катехизаторская деятельность: проведение бесед православными священниками в рамках кураторских часов со студентами 1-2 курсов вузов: добровольческие (волонтерские) движения в ряде вузов России; обучение членов ОРО МПОО «ОПУ» в магистратуре по направлению «Теология» и «Религиоведение»; оказание помощи соотечественникам - вынужденным переселенцам из стран СНГ; осуществление церковно-археологической работы (история церквей); выступление перед родителями, работа с подростками, юношами и девушками. Темы: «Духовно-нравственное воспитание растущего человека в семье», «Вопросы духовной безопасности, проблемы смысла жизни современного человека»; проведение цикла радиопередач духовно-нравственного содержания; преподавание в воскресных школах храмов; проведение миссионерских бесед с прихожанами храмов Спаса Нерукотворного Образа Иисуса Христа (г. Кировск), Успения Пресвятой Богородицы и храма Новомученников и Исповедников Российских (г. Апатиты); взаимодействие с Обществом православных педагогов им. Кирилла и Мефодия, включающее распространение знаний по основам православного вероучения, содействие воцерковлению детей и педагогов, помощь образовательным учреждениям в осуществлении задач по духовнонравственному и патриотическом воспитанию, изучение местных православных святынь, преданий, связанных с местной историей и др.
Подводя основные итоги, обратим внимание на следующее. Русской Православной Церковью осуществляется духовная, просветительская, миссионерская, научно-образовательная, педагогическая, воспитательная катехизаторская и иная деятельность, что видно на примере одного из православных приходов РПЦ.
Многообразная деятельность прихода храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы может восприниматься как модельное представление образовательной деятельности, ибо она обретает соборный, ценно-
Педагогические науки
Известия ВГПУ, №2(275), 2017
Российское образование сегодня
стно-смысловой, мировоззренческий характер; устанавливается взаимная сопричастность детей и взрослых, знающих и незнающих, атеистов и воцерков-ленных, служителей культа и мирян; многообразная деятельность выходит за рамки «предметной» компетентности в мир истории, культуры и становится разнообразной гуманитарной практикой.
Обнаруживаются признаки внешней образовательной деятельности: деятельность реализуется в контексте истории, культуры, быта региона, КОС провинции, сохраняется наследие, транслируются ценности от одного поколения к другому; специальная деятельность по включению молодого человека в жизнь региона, общества, среду вуза, школы; многообразная деятельность прихода распространяется на другие регионы России и страны мира.
Наблюдаются признаки внутренней образовательной деятельности: становление и развитие духовнонравственной и культуросообразной составляющей развивающегося человека в изменяющемся мире: опыт личностного, ценностного отношения к наследию, сосредоточенному в КОС региона, города, вуза; средство формирования и поддержки «человеческого фактора», «человека в человеке».
Обнаруживаются признаки управления образовательной деятельностью: совокупность различных направлений деятельности; организация региона как субъекта образовательной деятельности; характер, стиль управления образовательной деятельностью в масштабах КОС региона, города, вуза, школы.
На примере конкретного православного прихода храма можно утверждать: образовательная деятельность Русской Православной Церкви является частью национальной системы образования и просвещения Российского государства.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Белозерцев, Е.П. Философско-педагогическое наследие Отчего края : монография [Текст] / Е.П. Белозериев. -Воронеж, 2015. - 311 с.
2. Исаев, Е.И. Введение в антропологию образования [Текст] / Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков. - Биробиджан : Изд-во ПГУ им. Шолом-Алейхе 18, 2012. - 214 с.
3. Каптерев, П.Ф. Общий ход развития русской педагогики и ее главные периоды [Текст] / П.Ф. Каптерев // Избранные педагогические сочинения / под ред. А.М. Арсеньева. - М. : Педагогика, 1982.
4. Образовательная деятельность и историко-культурное наследие Отчего края : коллект. монография [Текст] / под ред. Е.П. Белозерцева. - М. : АИРО-XXI, 2017. - 352 с.
5. Образовательная концепция Русской Православной Церкви. Проект опубликован 14 марта 2016 года [Электронный ресурс]. - (msobor.ru).
6. Заридзе, Г.В. Объединение православных ученых как платформа реализации концепции преподавания основ духовно-нравственной культуры в высшей школе [Текст] / Г. В. Заридзе // Международный научный вестник (Вестник ОПУ). - 2014. - №2(2). - С. 10-14.
7. Заридзе, Г.В. Личность студента в высшей школе: духовное становление [Текст] / Г. В. Заридзе // Международный научный вестник (Вестник ОПУ). - 2014. - №1(2). - С. 10-14.
УДК 37.1:37.01
аспирант кафедры общей и социальной педагогики,
Воронежский государственный педагогический университет
АННОТАЦИЯ. Рассматривается современная трактовка концепций «инклюзия» и «интеграция», их принципы и характерные особенности, проявляющиеся при переносе концепций в сферу педагогики. Доказывается необходимость разграничения «инклюзии» и «интеграции» как разных социальных процессов и парадигм развития в системе образования. Объясняется, от каких факторов зависит успешная реализация концепции «инклюзия» в педагогике.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инклюзия, интеграция, системные барьеры, социальное взаимодействие, гибкая система.
Postgraduate Student of the Department of General and Social Pedagogy, Voronezh State Pedagogical University
ABSTRACT. In this article the modern definitions of the inclusion and integration, their principles and characteristics, which can be observed by using these concepts in educational system, are lonsidered. The necessity to delineate the terms “inclusion” and “integration” as different social processes and education development paradigms is proved. The article explains what factors determine for successful realisation of inclusion in pedagogy.
KEY WORDS: inclusion, integration, system barriers, social cooperation, flexible system.
С распространением и популяризацией идеи инклюзии в образовании все реже затрагивается вопрос о разграничении понятий «инклюзия» и «интеграция».
Считается, что если мы говорим о внедрении инклюзии, то мы хорошо понимаем, что она собой представляет. Тем не менее, несмотря на повсеместное принятие и законодательное закрепление инклюзии во многих странах, в том числе и в нашей, на практике до сих пор можно наблюдать неверную трактовку данной концепции и подмену одного понятия другим. В данной статье мы попробуем ответить на вопросы: почему так происходит и как этого избежать?
Начнем с того, что обе концепции развились из предложенной В. Вольфенсбергером в 1972 г. идеи нормализации [1], созданной с целью соблюдения базовых прав и свобод человека за счет отказа от дискриминации и включения каждого в общую систему. Однако в результате своего развития данные концепции претерпели ряд изменений. Поэтому сейчас можно говорить о двух структурно разных социальных парадигмах, причем инклюзия является более объемной, так как для реализации включения в социум (общей задачи инклюзии и интеграции) она расходует больше средств, которые уходят на перестройку системы.
Если попытаться обозначить основные направления развития концепции инклюзия, то мы получим следующую схему (рис. 1).

Рис. 1 - Направления развития концепции «инклюзия»
Информация для связи с автором: serebro13@inbox.ru
Исходя из этого, правильнее всего рассматривать инклюзию в широком смысле - как новую жизненную философию, поскольку она предполагает изменение структуры социального взаимодействия. В ядре концепта «инклюзия» лежит принцип полного участия во всех сферах жизни, т.е. включения. Достигается такое участие за счет ряда преобразований и задач, или, как принято говорить, за счет устранения «барьеров, мешающих взаимодействию» [2]. Периферию же концепта формирует большая совокупность понятий (что соответствует широкой области его применения): (равно-) ценность личности, принятие в зону актуальности, доступ (доступная среда), политика права, равноправие, устранение барьеров, гибкое реагирование, поиск оптимальных решений, новое социальное пространство, целостное общество, поощрение многообразия, уважение, социальное взаимодействие, социальная справедливость, отказ от категоризации и др.
Анализ данной совокупности значений позволяет сформулировать уровни инклюзии, выделив три области, в которых происходят изменения (табл. 1), что в полной мере соответствует общеизвестной схеме трех уровней инклюзии: культура - политика -практика [3, с. 7].
Таблица 1 - Уровни социальной инклюзии в соответствии с областью значений основного концепта
|
Инклюзия | ||
|
Философия |
Парадигма развития |
Практические преобразования |
|
Смена восприятия; формирование целостного общества; поощрение индивидуальности; принятие мира в его многообразии; повышение ценности личности; равнозначность каждой личности; справедливость; эмпатия |
Право доступа и участия; политика поддержки; гибкое системное реагирование; проблемный подход; запрет на категоризацию, маркирование и дискриминацию |
Устранение барьеров, мешающих взаимодействию; системные преобразования; формирование доступной среды; взаимодействие; оптимизация экономической системы |
Очевидно, что уровни инклюзии взаимосвязаны и изменения на одном уровне неизбежно вызовут изменения на двух других. Уровни инклюзии можно представить и более полно, причем законодательный уровень на приведенном ниже рисунке является системообразующим (рис. 2).
культура мышления
здравоохранение/
социально-бытовая
сфера
Рис. 2 - Полная схема уровней социальной инклюзии
Инклюзия имеет глобальный характер, поэтому она распространяется не только на людей с какой-либо формой инвалидности, но абсолютно на все слои населения, что нехарактерно для интеграции, рассматривающей исключительно вопросы адаптации в социуме конкретной категории людей. То есть, говоря о различиях между инклюзий и интеграцией, следует отметить, что, во-первых, при интеграции сохраняется категоризация людей, чего нет при инклюзии; во-вторых, интеграция, хоть и оперирует двумя системами, имеет более простую структуру, так как она направлена на адаптацию (а значит изменение) отдельно взятой личности, а не всего социального пространства, как это происходит при инклюзии; и в-третьих, интеграция направлена на унификацию личности, нивелирование различий, тогда как инклюзия видит в различиях проявление разнообразия мира и, наоборот, их поощряет.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что социальную инклюзию характеризует:
- всеобъемлимость;
- уважение личности, провозглашение ее равноценности;
- принятие мира в его многообразии, принятие различий;
- гарантия соблюдения базовых прав и свобод (в т.ч. свободы выбора);
- соблюдение принципа справедливости;
- обеспечение доступа к ресурсам, ко всем видам активности, к социальному участию, взаимодействию;
- формирование чувства принадлежности;
- соблюдение принципа равных возможностей;
— отказ от категоризации и дискриминации;
- устранение социальных барьеров, поддержка на всех фазах жизнедеятельности.
Перечисленные принципы и основные положения концепции «социальная инклюзия» должны полностью перейти на инклюзию в системе образования как на один из ее важнейших компонентов. Однако при переносе данного понятия в область педагогики неизбежно возникают трудности, связанные с невозможностью отличить истинную инклюзию от интеграции. Попытаемся ответить на вопрос, почему так происходит.
Дело в том, что в педагогику идея интеграции пришла раньше идеи инклюзии. Особую популярность она снискала в кругу педагогов-новаторов и специальных педагогов, которые рассматривали интеграцию в качестве одного из приемов адаптации или даже в качестве подготовительного этапа для последующего включения в социум. Как пишет А. Хинц, в лечебной и специальной педагогике интеграция понималась как организованный вариант специального педагогического содействия, при этом внутри традиционной лечебной и специальной педагогики долгое время существовала идея о том, что интеграция должна работать на сегративные институты, которые готовят своих клиентов к последующему включению их в социальную жизнь [3]. С другой стороны, первые приверженцы гуманистической педагогики (Деппе, Фейзер, Ямбург Е.А. и др.) рассматривали ее как «педагогику многообразия», работающую по всем принципам гетерогенного мира. Поэтому логично, что концепцию «инклюзия» они понимают как модернизированную вариацию интеграции и не более того.
Тем не менее в контексте современного уровня развития общества и на основании проведенной и научно обоснованной дифференциации понятий «социальная инклюзия» и «интеграция» можно утверждать, что в педагогике интеграция означает - помещение ученика с особыми образовательными потребностями в общеобразовательную школьную среду без адаптации самой школьной системы и процесса обучения. В соответствии с данной моделью учащиеся должны сами подстраиваться под правила, стиль, привычки и условия традиционной системы образования вместо того, чтобы все эти элементы менялись под нужды учащегося (как должно быть при инклюзии). Неудивительно, что в большинстве случаев интеграция не показывает желаемых результатов, а число детей с ОВЗ, выпадающих из учебного процесса, только растет. Тоже происходит, если все реформирование системы в сторону большей инклюзии сводится к замене одного понятия другим.
Под инклюзивными же программами понимается вовлечение в обычный образовательный процесс детей с физическими и психическими особенностями с учетом их нужд и на основе идеологии общедоступности образования и исключения любой дискриминации, за счет организации специальных сервисов. Если говорить точнее, то, как и социальная, педагогическая инклюзия предполагает перестройку системы, под которой подразумевается использование специальных подходов, приемов, стратегий к обучению [4], а также трансформацию восприятия в сторону большей толерантности, в результате чего каждый должен получить возможность на равных участвовать в образовательном процессе. В идеале - инклюзивная система образования должна быть настолько гибкой, чтобы удовлетворять потребностям всех учащихся.
Как и социальная, педагогическая инклюзия должна иметь всеобъемлющий характер, иначе есть риск того, что дополнительная поддержка будет направлена исключительно на ребенка с инвалидностью, а сам процесс обучения при этом останется в целом таким же. В таком случае мы будем иметь дело не с инклюзией, а с модифицированной формой интеграции. Однако если понять принцип работы инклюзии, то все дети (а не только с ОВЗ) смогут ощутить от нее заметную пользу. Продуктивность реализации инклюзии зависит от того, насколько полно взаимодействуют ее компоненты: региональная политика в области образования, школьная администрация, учителя, вспомогательный педагогический состав, родители ребенка с ОВЗ, сам ребенок, среда сверстников, специалисты ПМПК.
Например, в составлении индивидуального учебного плана (разработанного на основе утвержденной школьной программы для соответствующей ступени обучения) должны принимать участие как специалисты ПМПК, школьные педагоги, так и родители ребенка с ОВЗ и сам ребенок. А учебный процесс необходимо построить так, чтобы дети как можно больше взаимодействовали друг с другом. Для этого используются специальные проектные или групповые формы обучения. Кроме того, инклюзия предполагает командную работу педагогического состава, например, наличие на уроке нескольких педагогов или совместный анализ работы, использование педагогами специальных приемов, методов и стратегий обучения. Школы и учебные заведения, реализующие инклюзию, должны также подразумевать и лучшее оснащение за счет лучшего финансирования, непосредственное влияние на которое оказывает региональная политика, а также грамотная работа школьной администрации. Большое значение имеет правильно выбранная форма инклюзии (полная, частичная, временная). Обязательным является условие, чтобы инклюзия носила системный характер: в идеале начинаться инклюзия должна с (направленной на профилактику) ранней поддержки, далее она должна перейти на школьный этап, а после продолжиться на уровне профессионального обучения и дальнейшей жизни. Ключевым является и тот аспект, что при инклюзии ответственность за результаты обучения и качество включения ложится на школу или даже систему в целом, а не на ученика как это принято при интеграции.
Еще одним принципиальным отличием инклюзивного подхода от интегративного в педагогике является изменение отношения к детям с ограниченными возможностями и к их родителям, чему способствует эффективная работа школьных психологов и преподавательского состава, направленная на формирование эмпатии и сплоченного школьного коллектива, использование учителями групповых, проектных и игровых форм обучения, стратегии «совместного обучения», активного привлечения родителей и ребенка с ОВЗ к работе над его развитием, поощрение самостоятельности и саморефлексии.
Таким образом, суммируя вышесказанное, можно прийти к выводу, что к характерным особенностям педагогической инклюзии относятся: приветствие
разнообразия, уважение индивидуальности, отсутствие категоризации, соблюдение принципов справедливости, непрерывной поддержки и системности. Отдельно можно выделить такие особенности педагогической инклюзии, как возрастная целесообразность, относительная гибкость учебного плана и индивидуальный подход к обучению, адаптация среды, принцип гомогенности, принцип коллективной работы, активное участие каждого ученика в учебном процессе, социализация (одна из важнейших целей обучения).
Инклюзия - это новая социальная парадигма, провозглашающая законодательно зафиксированные гражданские права и человеческую ценность (даже равноценность), направленная на устранение барьеров, а также на формирование доступной среды, гарантирующей всем равное право доступа путем системных преобразований во всех сферах общественной жизни. В отличие от концепции «интеграция», для которой на первый план выходит задача достижения соответствия всех определенным нормам, концепция инклюзии предполагает принятие людей во всей их индивидуальности, чтобы интегрировать их в систему, при этом «приспосабливается» сама система, а не конкретный человек. Поэтому педагогическая инклюзия за счет использования специальных сервисов, методов, подходов и приемов обучения, а также трансформации отношения к инвалидности за счет грамотной работы преподавательского состава и оптимального построения учебного процесса, как никакая другая система, соответствует запросам современного общества. В результате преобразований система должна, во-первых, стать максимально комфортной для всех учащихся; во-вторых, способствовать реализации потенциала каждого ученика; в-третьих, содействовать построению грамотного, терпимого, готового к продуктивному взаимодействию общества. Можно сказать, что философия инклюзии способствует достижению желаемого уровня интеграции за счет трёхуровневого преобразования в политике, культуре и на практике, меняя при этом роль, положение и возможности ребенка с ОВЗ в системе образования. Педагогическую инклюзию ни в коем случае нельзя понимать как улучшенную, обновленную, очищенную от недостатков форму интеграции, тем более недопустимо называть фактическую интеграцию «инклюзией», иначе она не даст должных результатов или вовсе не будет работать.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Вольфенсбергер, В. Обзор принципа нормализации [Текст] / В. Вольфенсбергер // Нормализация, социальная интеграция и общественные сервисы / Р.Дж. Флин, К.Е. Нитш. - Балтимор : Юниверсити-Парк-Пресс, 1980 - С. 7-30.
2. ЮНЕСКО. Принципы инклюзии: доступ к образованию для всех, 2008 [Электронный ресурс]. -
(http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001402/140224e.pdf).
3. Айнисков, М. Индекс инклюзии: организация обучения и участия в школе [Текст] / М. Айнисков, Т. Буз. -CSIE, 2002. - 102 с.
4. Хинц, А. От специально-педагогического понимания интеграции к интеграционному пониманию инклюзии [Текст] / А. Хинц. - Хайльбрунн : Клинкхард, 2004. - С. 41-74.
5. Колтакова, Я.Г. Принципы, стратегии и приемы инклюзивного обучения [Текст] / Я.Г. Колтакова. - Воронеж : Известия ВГПУ. - 2016. - №4(273). - С. 14-17.
УДК 372.47
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и методики дошкольного и начального образования,
Воронежский государственный педагогический университет;
кандидат педагогических наук, доцент кафедры математики и информатики в начальной школе,
Московский педагогический государственный университет
АННОТАЦИЯ. Подробно рассматриваются различные виды и формы проведения устного счета на уроках математики в начальной школе. Авторы выделяют современные требования оценки достижения предметных и метапредметных результатов младших школьников при обучении счету. Уделяется внимание особенностям отбора материала при выборе/составлении заданий для устного счета на определенных этапах урока.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования, виды упражнений для организации устного счета, формы проведения устного счета на уроках математики в начальной школе.
Cand. Pedagog. Sci., Docent of the Department of Pedagogy and Methods of Preschool and Primary Education, Voronezh State Pedagogical University
Cand. Pedag. Sci., Docent of the Department of Mathematics and Computer Science in Primary School,
Moscow State Pedagogical University
ABSTRACT. The article gives a detailed consideration to different types and forms of carrying out mental arithmetic in math class in primary school. The authors identify modern requirements for assessing the achievement of subject and metasubject results of junior schoolchildren in teaching numeracy. The study focuses on peculiarities of material selection when sorting out/composing tasks for mental calculation at certain stages of a lesson.
KEY WORDS: mental arithmetic, math class, primary school, teaching numeracy.
Счет и вычисления - основа порядка в голове.
Песталоцци
Задача формирования вычислительных навыков является одной из центральных в курсе математики начальных классов. Согласно Федераль-ральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, в качестве главных предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования указаны «умения выполнять устно арифметические действия с числами и числовыми выражениями» [8]. В течение всего курса обучения в начальной школе учащимся необходимо освоить приёмы устных вычислений и приобрести твёрдые вычислительные навыки. В планируемых результатах освоения основной образовательной программы начального общего образования по математике в разделе «Арифметические действия» четко указано, что выпускник научится выполнять «устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1)», а также «получит возможность научиться использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.» [7].
Овладение прочными навыками устных вычислений содействует развитию логического мышления учащихся, математических навыков, сообразительности, внимания, памяти, арифметической зоркости и наблюдательности. Навык счета помогает лучше усвоить приемы письменных вычислений, так как последние включают в себя элементы устного сложения и вычитания. Быстрота и правильность выполнения устных вычислений необходимы в жизни, особенно в тех случаях, когда не представляется возможным письменно выполнять действия.
В настоящее время при организации вычислительной деятельности младших школьников необходимо ориентироваться не только на приемы устного счета, способствующие формированию прочных осознанных вычислительных умений и навыков, но и на развитие личности младшего школьника в целом.
Учителю начальных классов важно уметь выбирать в качестве заданий для устного счета те, в которых доминирует познавательная мотивация, преобладает развивающий характер работы, учитывающий
Информация для связи с автором: nadya.repnikova@rambler.ru (НА. Иванова)
индивидуальные особенности учащегося, его жизненный опыт, особенности мышления. Вычислительные задания должны иметь вариативность формулировок, неоднозначность решений, разнообразие закономерностей и зависимостей.
Присутствие в вычислительных заданиях игровых элементов, занимательности, необходимость проявлять смекалку, выявлять закономерности, видеть сходства и различия в различных математических выражениях, устанавливать доступные зависимости и взаимосвязи - все это элементы методики формирования вычислительных навыков, которые необходимо учитывать при планировании работы по устному счёту и которые в свою очередь способствуют формированию метапредметных результатов обучающихся.
Выделим следующие основные виды упражнений, которые можно использовать для устных вычислений:
I. Нахождение значений математических выражений
Цель данных упражнений - выработать у учащихся твёрдые вычислительные навыки.
Существует множество различных вариантов выполнения данных упражнений. Рассмотрим некоторые их них.
Найди значение выражений и расставь вагончики в соответствие с их нумерацией (рис. 1).
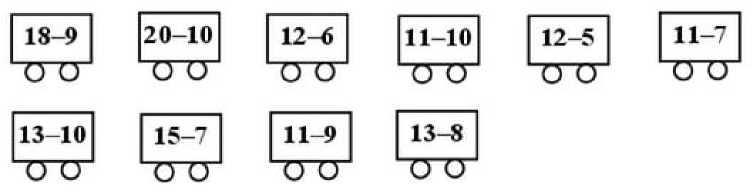
Рис. 1 - Нахождение значений математических выражений
Разгадай правило
Разгадай правило, по которому составлены пары равенств, и вставь числа в «окошки».
8 - 4 = □
80 - 40 = □
5 + □ = □
□ + 40 = □
□ - □ = □ 70 - 40 = □
3 + 5 = □
30 + 50 = □
6 + □ = □
□ + 30 = □
9 - 6 = □
□ - □ = □
Уменьшите 81 в 3 раза.
Из числа 340 вычесть число 80 и приба-
К какому числу прибавили 44 и получили
|
Например: |
ческими выражениями и их значениями: | |||
|
1. |
Число 9 меньше 54 в ... раз. |
1) |
1860 + 70 |
а) 990; |
|
2. |
Сумма чисел ... и 300 равна 9100. |
2) |
940 + 900 |
б) 1890; |
|
3. |
Число75 больше 25 на . . |
3) |
1950 - 60 |
в) 1930; |
|
4. |
Частное чисел 3500 и 70 равно . . |
4) |
1890 - 900 |
г) 1840. |
|
5. |
Число 420 увеличили на 98, получили . . |
Рядом |
с цифрой напиши букву 1_, | |
|
6. |
Число 44 меньше 80 на . . |
4_ | ||
|
7. |
Разность чисел ... и 100 равна 6900. | |||
|
8. |
Произведение чисел 150 и 3 равно ... | |||
|
9. |
Число 7000 больше 70 в ... раз. | |||
Математический диктант
Учитель в различной словесной форме проговаривает выражения, учащиеся в тетрадях записывают только ответы.
Пример содержания математического диктанта для учащихся 4 класса.
1. Первое слагаемое 64, второе 29. Найти сумму.
2.
3.
вить 70.
4.
80?
5. 7000 уменьшить в 100 раз.
6. 7000 уменьшить на 100.
7. Во сколько раз 3500 больше 70?
8. К числу 45 прибавить сумму чисел 5 и 29.
9. Увеличь 420 на 98.
10. Найди 1/9 часть от числа 81.
Одним из вариантов математического диктанта является диктант с заданием «Заполни пропуски».
Тестовые задания
Это задания, предполагающие несколько вариантов ответов, лишь один из которых правильный. Приведем пример заданий тестового характера с одним правильным ответом:
1. Если число 84 уменьшить в 6 раз, то получится:
а) 78; б) 14; в) 18.
2. Если число 90 увеличить в 100 раз, то получится:
а) 900; б) 9000; в) 90000.
3. Сумма чисел 8800 и 300 равна:
а) 9100; б)5100; в)9200.
4. При увеличении числа 420 на 98 получится:
а) 508; б) 518; в)528.
5. Число 8 меньше числа 96 в:
а) 12 раз; б) в 13 раз; в) в 11 раз.
Приведем пример заданий тестового характера на соответствие.
Установить соответствие между математи-
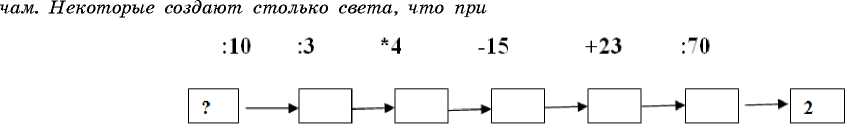
Ответ: 990.
3. Найди первое и последнее числа математической цепочки.
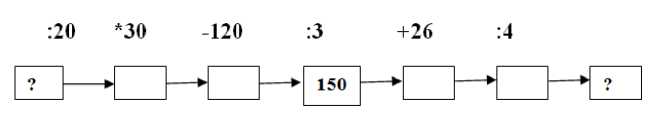
Ответ: первое число — 180, последнее число — 19 4. Двойная познавательная математическая цепочка. И чего состоят метеориты: а) из металла — 180;
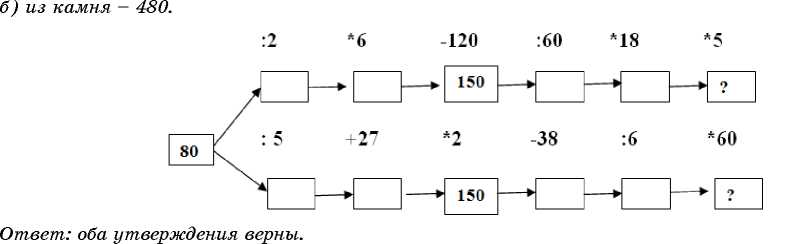
Математические цепочки 1. Познавательные математические цепочки.
Существует множество различных вариантов за- Учащиеся, выполнив ряд арифметических действий даний для устного счета с помощью цепочек. Рас- и соотнеся ответ с предложенными, отвечают на смотрим некоторые их них. один из познавательных вопросов.
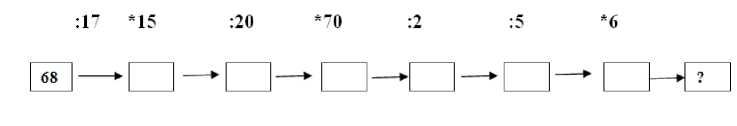
Какое растение может заменить лампу:
а) мох — 130;
б) гриб — 126;
в) герань — 142?
Ответ: б) гриб — 126.
Можно добавить энциклопедические сведения. Многие растения, особенно грибы, светятся по но-
Можно добавить энциклопедические сведения. Метеориты представляют собой обломки комет. Среди метеоритов можно выделить два основных вида. Относящиеся к первому виду состоят главным образом из железа и никеля. Они называются «металлическими» метеоритами. В состав других входят преимущественно различные минералы, и они выглядят как обожжённые каменные глыбы.
нем можно читать. Некоторые виды герани, ноготков, мхов тоже светятся по ночам, но не так ярко, как грибы.
2. Математическая цепочка «Угадай задуманное число». Для поиска задуманного числа учащимся необходимо выполнить обратные действия и в обратном порядке.
5. Познавательная математическая цепочка. Учащиеся, ориентируясь на контуры стрелок, должны вставить в пустые квадраты соответствующие числовые значения и выполнить арифметические действия.
Какой континент самый жаркий, малонаселенный, удивительно богатый и разнообразный уникальными представителями флоры и фауны?
Евразия - 3;
Ответ: Австралия.
ф Африка - 4;
ф Австралия - 5;
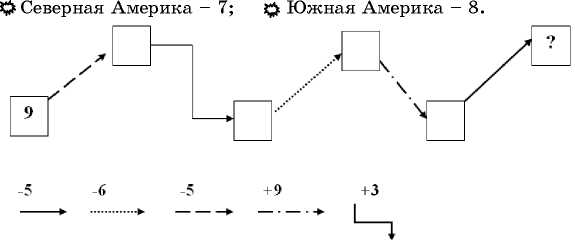
Примеры с окошками
Учащимся необходимо восстановить примеры, вставив вместо звездочек соответствующие числа. Например:
(** - 30) + 30 = 60; (14 - 9) + * = 14;
48 - (** - 48) = 48; (** + 26) - 26 = 13.
Ответ: (60 - 30) + 30 = 60; 48 - (48 - 48) = 48; (14 - 9) + 9 = 14;
(13 + 26) - 26 = 13
Задания для устного счета с элементами занимательности
Учащимся предлагается не только найти значения выражений, но и раскрасить рисунок соответствующими цветами (рис. 2).
Интересны задания для устного счета, предложенные И.И. Аргинской. Например: Находи по порядку значения выражений и соединяй точки с соответствующими числами (рис. 3).

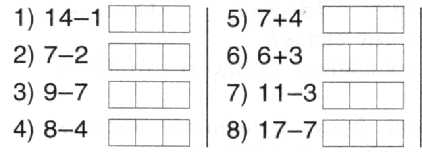
Рис. 3 - Задание для устного счета Н.И. Аргинской
9) 2+4 ~
10) 13+1
11) 4+3
12) 10+2

Рис. 4 - Занимательное задание Н.И. Аргинской
Подумай, где лучше соединять точки отрезками, а где — кривыми. Исправь рисунок (рис. 4).
При проверке вычислительных навыков можно параллельно предлагать задания и на усвоение нумерации. Например: Сначала соедини в порядке возрастания все точки с числами, которые могут получиться при умножении однозначного числа на 5, затем — на 4, затем — на 3 (рис. 5).
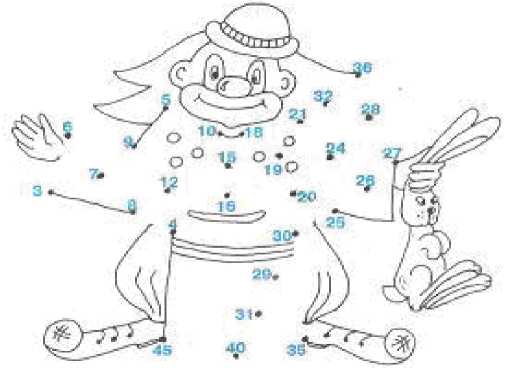
Рис. 5 - Задание на усвоение нумерации
И.И. Аргинская и Е.И. Ивановская для устного счета предлагают комплексные упражнения. Например:
1. Как бы ты нашёл значения произведений: 20 Ч 4; 30 Ч 2; 30 Ч 3?
2. При выполнении задания Вася, Света и Рома предложили такие способы:
Вася: 20 Ч 4 = (10 Ч 2) Ч 4 = 10 Ч (2 Ч 4) - 10 Ч 8 = 80;
Света: 2 Ч 4 = 8, значит, если 2 десятка умножить на 4, получится 8 десятков. 20 Ч 4 = 80;
Рома: 20 Ч 4 = (10 + 10) Ч 4 = 10 Ч 4 + 10 Ч 4 = 40 + 40 = 80.
Как рассуждал каждый?
3. Какой способ тебе нравится больше? Объясни свой выбор.
4. Нам кажется самым лучшим способ Светы. Как ты думаешь, почему?
5. Если ты не знаешь, попробуй найти разными способами значения произведений: 60 Ч 7; 30 Ч 9; 80 Ч 5; 50 Ч 5.
6. Верно ли утверждение: его преимущество в том, что используется таблица умножения?
7. Найди этим способом значения произведений: 200 Ч 4 300 Ч 2 300 Ч 3 400 Ч 2 200 Ч 2 200 Ч
3.
Сколько равенств из таблицы умножения понадобилось для решения? Почему их меньше, чем произведений?
Игровые задания
Игра «Молчанка» («Ромашка»)
Учащиеся, пользуясь веером цифр, молча показывают значение выражений, предложенных учителем (рис. 6).
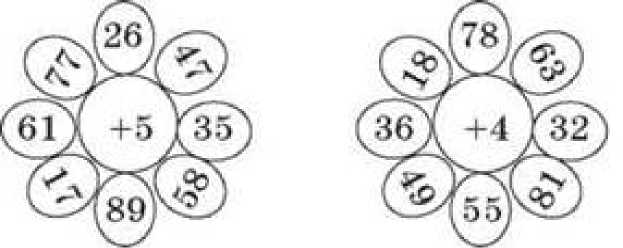
Рис. 6 - Игра «Молчанка»

I +■
+
+
Зашифрованные примеры
Учащимся предлагаются математические записи, включающие различные геометрические фигуры. Необходимо заменить геометрические фигуры соответствующими числами таким образом, чтобы равенство было верным. Например:
37
Ответ: 9+9+7+7+5=37.
Круговые примеры
Учащимся предлагаются примеры, ответ первого примера является первым компонентом следующего примера и т.д., а результат последнего примера будет первым компонентом первого. Например: найдите значения выражений и подумайте, можно ли данные примеры назвать «круговыми»:
180 : 20; 90 Ч 30 ; 270 - 120 ; 150 : 3 ; 50 + 26 ; 76 + 104.
Задания для устного счета, где необходимо восстановить знаки арифметических действий
Вставьте в пустые квадратики знаки «+» или «-».
6 □ 1 □ 3 = 4 4 □ 1 □ 2 = 7;
9 □ 5 □ 2 = 2 7 □ 2 □ 4 = 1;
7 □ 4 □ 3 = 0 7 □ 2 □ 8 = 1.
По нашему мнению, вычислительный навык будет сформирован более эффективно в том случае, если получение правильного результата достигается при наименьших затратах умственных ресурсов, т.е. младший школьник, используя различные имеющиеся у него знания, выбирает более удобный для него в конкретной ситуации способ вычисления, который быстрее других приводит к результату.
II. Сравнение математических выражений
Цель данных упражнений - способствовать усвоению теоретических знаний об арифметических действиях, их свойствах, о равенствах; выработке вычислительных навыков.
Существует несколько различных вариантов выполнения данных упражнений. Может быть предложено два выражения, надо установить: равны ли их значения, а если не равны, то какое из них больше или меньше. Например:
а) сравните выражения и поставьте соответствующие знаки сравнения:
35Ч1...35Ч0+35 48:4...52:4,
55+4... 55+3; 70-5.70-3;
б) сравните, где это возможно:
Q+3 ... Q; 0+ П ... 0; ^+5 ...<х+5; V-2 ...V;
в) подставьте в «окошки» числа:
у - 2 > у - □,
® + 5 > ® - □,
1 + □ < □ + 1.
III. Решение задач
Для устного счета младшим школьникам предлагаются текстовые задачи, как простые, так и составные. Эти упражнения помогают освоить теоретические знания и выработать вычислительные навыки. Необходимо предлагать младшим школьникам различные упражнения для устных вычислений. Разнообразие заданий поддерживает интерес у учащихся, активизирует их мыслительную деятельность.
Простые задачи для устного счета могут быть сформулированы как в стихотворной форме, так и в прозаической. Приведем пример простой задачи, сформулированной в стихотворной форме:
На траве во дворе Бегают щенята Двое белых, будто снег,
Трое черных. Сколько всех?
Таким образом, при организации устного счета на каждом уроке математики необходимо ориентироваться на развивающий характер работы, отдавать предпочтение обучающим заданиям, в которых познавательная мотивация учащихся выступает на первый план. Используемые вычислительные задания должны отличаться разнообразием содержания, вариативностью формулировок, неоднозначностью решений, наличием разнообразных закономерностей и зависимостей, использованием различных моделей (предметных, графических, символических), что позволяет учитывать индивидуальные особенности учащегося, его жизненный опыт, предметно-действенное и наглядно-образное мышление и постепенно вводить ребенка в мир математических понятий, терминов и символов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Афоризмы. Высказывания великих о математике [Электронный ресурс]. -
(http://www.fizmat.lenlic.edusite.ru/p15aa1.html).
2. Бенесон, Е.П. Математика : рабочие тетради по математике для 1, 2, 3, 4 классов [Текст] / Е.П. Бененсон, Л.С. Итина. - Самара : Федоров, 2014. - 64 с.
3. Ефимов, В.Ф. Формирование вычислительной культуры младших школьников [Текст] / В.Ф. Ефимов // Начальная школа. - 2014. - №1. - С. 61-66.
4. Нюман, О.В. Проблемы формирования самоконтроля в процессе вычислительной деятельности [Текст] / О.В. Нюман // Начальная школа. - 2012. - №4. - С. 14-17.
5. Планкина, Д.Ю. Использование магических квадратов для развития умения рассуждать [Текст] / Д.Ю. Планкина // Начальная школа. - 2013. - №11. - С. 66-70.
6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования [Электронный ресурс]. -(http://window.edu.ru/resource/623/70623/files/noo-prim.pdf).
7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования [Электронный ресурс] - (http://mon.gov.ru/files/materials/7195/373.pdf).
8. Царева, С.Е. Формирование вычислительных умений в новых условиях [Текст] / С.Е. Царева // Начальная школа. - 2012. - №11. - С. 51-60.
УДК 373.21
СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ЭКОЛОГО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНОЙ СРЕДЫ В ПОМЕЩЕНИИ ДЕТСКОГО САДА В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ (на примере Магаданской области)_
кандидат биологических наук, профессор кафедры дошкольного и начального образования, Северо-Восточный государственный университет
АННОТАЦИЯ. Рассматриваются теоретические основы и подходы к созданию эколого-развивающей предметной среды в помещении детского сада как источника познания и здоровья детей дошкольного возраста (на примере комнатных растений, включая фитонцидные) в условиях северных регионов страны (Магаданская область). Даны рекомендации по подбору фитонцидных комнатных растений. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Магаданская область, дошкольное образование, эколого-развивающая среда, фитонцидные комнатные растения, уголок природы, познание и здоровье дошкольников.
Cand. Biolog. Sci., Docent of the Department of Pre-school and Primary Education,
Northeastern State University
ABSTRACT. Theoretical basics and approaches to creating ecologic and developing subject environment in the premises of a kindergarten as a source for learning and health of preschool children (on the example of indoor plants, including phytoncides) in the conditions of the northern regions of the country (Magadan region) are viewed in the article. Recommendations on the selection of potted phytoncides are drawn.
KEYWORDS: Magadan region, preschool education, ecologic and developing environment, phytoncide potted plants, nature’s corner, learning and health of preschool children.
Изменения, происходящие в обществе, выдвигают новые требования к системе образования. В период обновления дошкольного образования значительно возрастает роль создания необходимых условий для охраны и укрепления здоровья детей, что полностью согласуется с Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) [1], ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [2].
В условиях северных регионов России из-за длительности зимнего периода и пребывания людей долгое время в закрытых помещениях большое значение приобретают вопросы, связанные с созданием благоприятной, оздоровительной среды в этих помещениях.
Актуальность данной проблемы особо возрастает в дошкольных образовательных организациях (ДОО), что связано с развитием и сохранением психического, физического здоровья детей дошкольного возраста и полностью согласуется с Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) [1] и «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» [3].
Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [2] к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится в том числе создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья... (и далее по тексту) ...[ст. 28, п. 3, подп. 15] и охрана здоровья обучающихся [п. 5]; организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятий физической культурой и спортом [ст. 41, п. 5] и др.
Большое внимание при реализации целей и задач дошкольного образования уделяется созданию развивающей предметной среды, включая экологоразвивающую, как на территории, так и в помещениях дошкольных организаций с целью обеспечения благоприятных условий для всестороннего развития и полноценного проживания ребенком дошкольного детства.
В дошкольной организации создание правильной развивающей экологической предметной среды, по мнению Н.А. Рыжовой [4, с. 207], должно способствовать познавательному, эколого-эстетическому развитию; оздоровлению детей, формированию
Информация для связи с автором: nadezda-svet@mail.ru
нравственных качеств и экологически грамотного поведения, а также экологизации различных видов деятельности ребенка, т.е. реализации всех компонентов содержания образования: познавательного, ценностного и деятельностного.
В создании условий, обеспечивающих педагогический процесс экологического образования дошкольников, а именно в создании экологической развивающей предметной среды, особая роль отводится администрациям дошкольных образовательных организаций и муниципальным органам образования, как это и определено государственной политикой в области всеобщего и непрерывного экологического образования.
Естественно, что северные условия требуют более ответственного подхода к вопросам организации, создания и поддержания эколого-развивающей предметной среды как на территории участка детского сада, так и в его помещениях, что подтверждают и исследования педагогов Северо-Восточного региона страны Н.Г. Волобуевой [5], К.А. Бережной [6] и других.
Особое внимание необходимо уделять экологоразвивающей среде и внутри помещений детских садов, расположенных в северных регионах страны. Здесь дети проводят большую часть года в групповых помещениях и долгое время лишены общения с миром зеленых растений.
Созданию и улучшению здоровьесберегающих условий в дошкольных организациях Северо-Восточного региона России могут способствовать фитонцидные комнатные растения, являющиеся средообразующим фактором в жизни людей и оказывающие значительную помощь в оздоровлении микроклимата закрытых групповых помещений с продолжительным пребыванием детей дошкольного возраста.
Интерес к фитотерапии в последние годы значительно вырос. Работы Н.В. Цыбуля, Т.Д. Фершало-вой [7; 8], Н.Л. Меньшиковой, Н.Л. Чистяковой [9], В.Т. Любаровой [10], А.В. Цицилина [11] и других исследователей показывают, что в создании эколого-развивающей среды большое значение имеют фитонцидные растения для живых уголков природы детского сада как источники образования благоприятного микроклимата. Комнатные растения как компоненты эколого-развивающей предметной среды в детском саду играют особую роль, являясь не только украшением помещения, но и дидактическим материалам, действенным средством образования и экологического воспитания. Правильно подобранные комнатные растения и работа с ними расширяют представления детей о живой природе, прививают навыки выращивания и ухода за растениями, развивают наблюдательность, воспитывают любовь и бережное отношение к природе, способствуют эстетическому восприятию окружающего мира и т.д.
Важность экологического образования и воспитания детей дошкольного возраста не взывает сомнений. Чем раньше начинается формирование основ экологической культуры, тем выше в дальнейшем её уровень. В ходе экологического образования и воспитания детей дошкольного возраста формируется экологическое мировоззрение. Закладываются первые основы миропонимания и практического взаимодействия с предметно-природной средой.
Многие современные педагоги, в том числе Н.А. Рыжова [12], В.Г. Фокина [13], Н.П. Потапова [14], С.Н. Николаева [15], Г.В. Широбокова [16], занимаются вопросами создания предметно-развивающей среды. По их мнению, комнатные растения -это средообразующий экологический фактор в жизни людей. Являясь предметной средой человека, комнатные растения оказывают влияние на его состояние и развитие. Создание эколого-предметной среды обеспечивает планомерную выработку экологических знаний детей дошкольного возраста. Для успешного решения реализации и развития дошкольников используется живой уголок, комнаты природы, зимнего сада в помещении ДОО. Специфической чертой экологического образования дошкольников является непосредственный контакт с объектами природы, «живое» общение с растениями как частью эколого-развивающей среды.
Анализ, обобщение и систематизация литературных источников по проблеме использования фитонцидных комнатных растений [11; 13; 16; 17 и др.] в создании благоприятной, оздоровительной среды дошкольных образовательных организаций свидетельствуют том, что для северо-восточных регионов России эти вопросы более детально не рассматривались. Имеется лишь опыт проведения подобных исследований для Европейской части России и Сибири [18]. Отсутствуют и учебные пособия, учебно-методические разработки комплексного характера по использованию комнатных растений уголка природы, включая фитонцидные, для создания благоприятного, оздоровительного микроклимата в помещении дошкольных образовательных организаций северных регионов страны.
Учитывая вышеизложенное, мы сформулировали основные направления исследований:
- теоретически обосновать необходимость создания здоровьесберегающей эколого-развивающей предметной среды в дошкольной образовательной организации в условиях Северо-Восточного региона страны посредством комнатных растений, включая фитонцидные;
- определить, при помощи каких комнатных растений уголка природы можно создать благоприятный микроклимат в групповых помещениях (комнатах природы, зимнего сада) детского сада;
- раскрыть роль эколого-развивающей предметной среды в помещении детского сада как источника познания и здоровья детей на примере комнатных, включая фитонцидные, растений уголков природы, сочетая принципы научной обоснованности и возможности практического применения в деятельности педагогов при реализации идеи по созданию пособия соответствующей тематики.
Работы Н.В. Цыбуля, Т.Д. Фершаловой, Н.В. Казаринова [7; 8; 17], А.В. Цицилина [11] и др. явились методологической основой исследования.
Комнатные декоративные растения - это не только уют в помещении, они по праву могут считаться и «аптекой на подоконнике». Кто-то выбирает неприхотливые, не требующие особого ухода растения, но даже самые нетребовательные горшковые обитатели могут стать для каждого из нас дополнительным источником положительной энергии, а в зимние холода - поднять настроение. Сочная зелень растений всегда радует глаз и улучшает иммунитет человека [19].
Внутри помещений концентрация летучих органических веществ значительно превышает их содержание в атмосферном воздухе. Почти до 80% химических веществ, обнаруженных в воздухе квартир, - это строительные и отделочные материалы, мебель, краски, растворители, стиральные порошки, моющиеся обои, бытовая химия и другие «блага цивилизации». Известно, что воздух внутри помещений загрязнен сильнее наружного в 1,5-4 раза. Поэтому важно чаще проветривать помещение. Но это не единственный выход. Следует обратиться к зеленым докторам и знать их в лицо. Они непременно помогут. Витающие в воздухе яды, домашняя пыль могут вызвать у людей аллергию, от которой страдают как взрослые, так и дети. И тут на помощь придут комнатные растения. С легкостью справляются с токсическими веществами: аг-лаонема, хлорофитум, плющ, монстера, пеларгония, циссус, сансевиерия и мн. др.
Растения с фитонцидными свойствами, которые способны снизить в 300 раз и более число микроорганизмов в воздухе, вызывают особый интерес. К ним относятся хвойные растения, олеандр, лавр,
мирт, фортунелла и др. Всем известный алоэ спосо
бен в 4 раза уменьшить количество вредных микробов, а кактус-опунция в 6-7 раз уменьшает численность плесневых грибов в воздухе комнаты. Фитонцидной активностью обладают мирт и цитрусы. C микробами (стафилококком) справляются: гиби
скус, циссус, фикус [20, с. 361].
Под воздействием летучих выделений некоторых видов растений общее число микроорганизмов в помещениях снижается на 70-80%, что зачастую эффективнее технических средств очистки воздуха. Эти летучие выделения называются фитонцидами. Фитонциды - образуемые растениями летучие, эфирные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий, микроскопических грибков, простейших микроорганизмов, а также увлажняющие воздух помещения. Фитонциды были открыты профессором Б.П. Токиным в 1928 году. Со времени открытия фитонцидов накоплен большой материал об антимикробных и противовирусных веществах высших растений. Доказано, что фитонцидная активность присуща всему растительному
миру. Газовые выделения являются продуктами обмена растительной клетки, средством активного воздействия на среду и в то же время, как предполагают многие авторы, - регуляторами роста и развития самих растений [7].
Фитонциды - важный фактор иммунитета растений. Это было отмечено Б.П. Токиным и наиболее полно раскрыто в 1962 году Д.Д. Вердеревским (и его школой) на основе клеточной теории фагоцитарного иммунитета. Одна из важнейших особенностей фитонцидов - специфичность их действия. Даже в микроскопических дозах они могут задерживать рост и размножение одних микроорганизмов, стимулировать рост других и играть существенную роль в регулировании состава микрофлоры воздуха, почвы и воды [7].
В ходе эволюции к каждому виду растений адаптировались определённые микроорганизмы, выделения фитонцидов обусловили взаимоотношения между растениями в сообществах. Выделение комнатными растениями летучих веществ зависит от многих факторов: от систематической принадлежности растений, возраста, физиологического состояния, эколого-биологических особенностей, условий выращивания. Фитонцидная активность у разных растений колеблется в течение года. Максимальна она в период наиболее интенсивного роста и в начале бутонизации растений: зимнее-весенний период. В лечебных целях очень важно, что фитонцидная активность комнатных растений проявлялась в зимне-весенний период, т.к. именно в это время возрастает число острых респираторных заболеваний (кратко ОРЗ) [7, с. 26].
Растения, выделяющие эфирные масла, привлекают особое внимание. Их можно выращивать в тех помещениях, где нет людей с повышенной чувствительностью к запахам. Эфирные масла повышают концентрацию легких ионов в помещении и снижают уровень тяжелых, а у человека при этом нормализуется артериальное давление, сердечный ритм [20, с. 367].
В дошкольных образовательных организациях (ДОО) дети проводят в среднем 8-10 часов в день. Педагоги стремятся принимать все необходимые меры для улучшения их здоровья, но оно все равно далеко от идеала. Используя полезные свойства растений, можно создать неповторимый и полезный интерьер детского сада. Комнатные растения улучшают как физическое, так и психологическое здоровье, изменяют не только химический состав воздуха, увеличивая количество кислорода и уменьшая количество углекислого газа, но и физическое состояние его молекул, ионизируют их, что необходимо для здоровья человека [7, с. 2].
Значительного улучшения состояния воздуха помещения ДОО можно добиться, озеленяя его определёнными, специально подобранными комнатными растениями. С точки зрения лечебного эффекта важно, что оздоровительное влияние комнатных растений проявляется в зимне-весенний период, ведь в это время дети чаще всего болеют острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ).
В течение 10 лет в дошкольных учреждениях Новосибирска педагоги и медики Новосибирской медицинской академии проводили эксперимент -проверяли влияние разнообразных фитонцидных растений на микроорганизмы (бактерий - стафил-локока и воздушных плесеней - грибов и актино-мицетов). Опыт проводился в пяти помещениях, а в шестом был установлен воздухоочиститель «Суперплюс», который работал в непрерывном режиме, оказывая бактерицидный эффект.
После установки растений общее микробное содержание воздуха значительно снизилось. Действия летучих выделений фитонцидных растений оказались эффективнее технических средств очистки воздуха против вредных микроорганизмов, обитающих в групповых помещениях, хотя воздухоочиститель лучше, чем испытанные растения, уничтожает плесневые грибы [7].
Для того чтобы сделать воздух в помещении чище, вовсе не обязательно превращать групповую комнату в непроходимые джунгли. Достаточно 5-6 растений высотой не менее полуметра. И конечно, подбирать их нужно с учётом потребностей данной группы. Кроме того, среди комнатных растений есть и ядовитые, с которыми следует быть осторожными: олеандр, диффенбахии и др. Также подбирать фитонцидные растения следует, исходя из особенностей групповых комнат, если в помещении слишком сухой воздух, то подойдут растения-увлажнители. Если же в помещении, наоборот, повышенная влажность, то нужно уменьшить количество растений-увлажнителей. В группах, где дети часто болеют, следует поместить бактерицидные и лекарственные растения. Но прежде чем применять лекарственные растения для лечения, следует посоветоваться с врачом во избежание негативных последствий [11, с. 10].
К дополнительной информации можно отнести и более подробные сведения о целебных свойствах растений по материалам М. Александровой, П. Александрова [20, с. 368].
Эффективность фитонцидных, лекарственных растений была доказана исследованиями многих биологов и педагогов [7; 8; 9; 10; 11; 17 и др.]. Согласно этим исследованиям, в создании экологоразвивающей среды большое значение имеют фитонцидные растения для живых уголков природы детского сада как источники образования благоприятного микроклимата.
H. В. Цыбуля, Т.Д. Фершалова и др. [7; 8] на основе анализа имеющихся литературных данных по фитонцидам за последние 40 лет и результатов собственных экспериментальных исследований составили ассортимент тропических и субтропических растений. Это растения, которые можно использовать для профилактических и лечебных целей дома и в местах массового скопления людей - в детских садах, школах, лечебно-профилактических и других учреждениях. Они были объединены авторами в 3 группы:
- 1-группа - растения, летучие выделения которых обладают выраженной антибактериальной, антивирусной, антифунгальной активностью в отношении воздушной микрофлоры (так называемые фитонцидные растения), например, плющ обыкновенный, аукуба японская, пеперомия туполистная и многие другие;
- 2-я группа - растения, летучие выделения которых улучшают сердечную деятельность, повышают иммунитет, обладают успокаивающими, противовоспалительными и другими лечебными действиями, например, мирт обыкновенный, розмарин лекарственный, лимон, герань душистая, лавр благородный;
- 3-я группа - растения-фитофильтры, поглощающие из воздуха вредные газы, например, хлорофитум хохлатый, фикус Бенджамина, некоторые виды семейства бромелиевых [7, с. 19].
Для условий Северо-Восточного региона страны (Магаданская область) впервые рассматриваем вопросы отбора и характеристики комнатных фитонцидных растений с целью создания благоприятной, оздоровительной эколого-развивающей среды в помещениях дошкольных образовательных организаций. На основании изучения и анализа работ [7; 13; 16; 17; 19; 20] и других материалов, рекомендующих использование фитонцидных растений, нами было предложено к выделению пять групп комнатных растений (классификация осуществлялась, исходя из их воздействия на окружающую среду): бактерицидные, растения-очистители, лекарственные, антигрибковые, растения-увлажнители.
Выделение данных групп растений обусловлено возрастными особенностями детей дошкольного возраста, программными требованиями воспитания и обучения в детском саду, а также осуществляется с учетом обстановки групповых помещений и воздействия летучих выделений фитонцидных растений на окружающую среду.
Предлагаем примерный перечень комнатных растений, рекомендуемых к использованию с целью создания благоприятной, здоровьесберегающей среды в детском саду (в групповых помещениях, комнатах природы, зимних садах и др.):
I. Бактерицидные (растения, летучие вещества которых обладают выраженной антибактериальной, антивирусной активностью): мирт обыкновенный, пеларгония (герань душистая) душистейшая, пеларгония (герань) зональная, аукуба японская, лимон, мандарин, араукария, сансевиера трехполосая, агава американская, бегония Рекс, традесканция и др.
2. Растения-очистители (очищающие и поглощающие из воздуха вредные газы): хлорофитум, фикусы, фикус Бенджамина, драцена окаймлённая; драцена деремская, бегония крапчатая, спатифил-лиум, толстянка портулаковая и др.
3. Лекарственные (растения, обладающие противовоспалительными и другими лечебными свойствами): алоэ древовидное, бриофиллум Дайгремонта, золотой ус, каланхоэ Блоссфельда, лимон и др.
4. Антигрибковые (растения, летучие выделения которых обладают выраженной противогрибковой активностью в отношении воздушной микрофлоры): плющ, кофейное дерево, бегония лотосовидная, комнатный виноград, аспарагус и др.
5. Растения-увлажнители (благотворно влияющие, тонизирующие и увлажняющие): гибискус
(китайский розан), маранта, циперус, папоротники.
Комнатные растения с фитонцидными свойствами были подобранны с учётом рекомендаций специалистов.
Характеристику комнатных растений с описанием их фитонцидных свойств приводим по литературным данным [7; 10; 17; 20; 21; 22] и другим источникам [22-25].
Вышеперечисленные растения рекомендованы для очистки, увлажнения и оздоровления воздуха в помещении, поэтому в зависимости от свойств растений их можно размещать в определенных комнатах. В закрытых помещениях они способны успешно бороться с вредными микроорганизмами, обитающими в групповых комнатах, и другими возбудителями болезней.
На современном этапе необходимо обращаться к нормам СанПина [3] по содержанию растений, и особенно животных, в помещениях ДОО.
Комнатные растения уголков природы, включая фитонцидные, играя важную роль в средообразующей и здоровьесберегающей функциях, улучшают гигиенические и эстетические параметры окружающей среды. Но следует соблюдать основные правила подбора и распределения комнатных растений в пространстве групповых помещений (и с учетом частей света), а также выбирать растения необходимо в соответствии с программными требованиями и возрастными особенностями детей дошкольного возраста.
К созданию благоприятного, оздоровительного микроклимата в каждой возрастной группе педагоги должны подходить, учитывая имеющиеся условия в групповых помещениях и регулируя необходимый состав комнатных растений, включая фитонцидные, с познавательной и здоровьесберегающей целью.
Научно-теоретическое обоснование проблемы позволило провести опытно-экспериментальное исследование в пяти муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях (МБДОУ) г. Магадана, включая 20 групп детей дошкольного возраста - от младшей до подготовительной (3-7 лет).
Практическая часть работы состояла в решении ряда задач:
- обследовать уголки природы дошкольных образовательных учреждений (организаций) на наличие комнатных растений и их внешнего состояния с учетом программных требований для реализации воспитательно-образовательных задач;
- выявить сроки, методы и формы организации работы с воспитанниками, используемые материалы, оборудование при ознакомлении дошкольников с комнатными растениями и их жизнью в каждой из возрастных групп детей;
- определить имеющиеся фитонцидные растения в групповых помещениях, способствующие благоприятному микроклимату и созданию оздоровительной среды;
- уточнить знания и отношения к фитонцидным растениям воспитателей разных возрастных групп детского сада в процессе бесед, опроса и т.д.
Эксперимент носил естественный характер, что не нарушало педагогического процесса и привычного хода деятельности детей в группах. Материалы обработаны, проанализированы.
Далее, сочетая принципы научной обоснованности и возможности практического применения материалов в деятельности педагогов, мы провели научный поиск, подбор, систематизацию и анализ материалов исследователей и педагогов для обеспечения непрерывной непосредственной образовательной деятельности детей дошкольного возраста. На основе полученной подборки материалов идет планирование комплекса педагогических мероприятий для целенаправленного развития познавательного интереса и формирования экологических знаний и представлений при ознакомлении с комнатными растениями.
Привлечены разработки конспектов непосредственной образовательной деятельности, занятий, а также материалы других авторов, опубликованные и до введения ФГОС ДО. Мы полагаем целесообразным представлять примерные конспекты занятий и материалов разных авторов (в авторской редакции), сохраняя слово «занятие» и их авторское право на материалы по ознакомлению детей дошкольного возраста с природой и формированию их экологических знаний и представлений посредством комнатных растений. Конспекты авторов апробированы в детских садах, нашли признание и опубликованы во многих изданиях. При необходимости они могут быть переработаны педагогами с учетом современных требований и предлагаемых материалов и использованы по своему усмотрению в образовательной деятельности.
Методические материалы распределяем по 4-м блокам. Каждый блок будет ориентирован на одну из возрастных групп детей дошкольного возраста (от младшей группы до подготовительной) и включать разнообразную образовательную деятельность по ознакомлению с комнатными растениями: примерные конспекты занятий, сценарии, игровую и опытно-экспериментальную деятельность; художественное слово (подобраны загадки, стихотворения о комнатных растениях) и др.
В приложении представим: краткий словарь
специальных терминов по комнатному цветоводству; описания и иллюстрации комнатных растений, рекомендуемых для содержания в групповых помещениях (от младшей до подготовительной группы) детских садов; примерный перечень растений с видоизменениями побегов и особенностями размножения.
Материалы исследования нашли свое отражение в рамках эколого-краеведческой подготовки педагогических кадров в условиях Северо-Востока России (Магаданская область) в дисциплинах: «Естествознание», «Теории и технологии экологического воспитания» и др.
Таким образом, в результате исследования нами:
- теоретически обоснована необходимость использование комнатных, включая фитонцидные, растений в эколого-развивающей предметной среде для создания здоровьесберегающих условий и благоприятного микроклимата в групповых помещениях, комнатах природы детских садов СевероВосточного региона страны;
- даны рекомендации по подбору фитонцидных комнатных растений пяти выделенных групп для создания здоровьесберегающей среды и благоприятного микроклимата в групповых помещениях, комнатах природы, зимних садах и других помещениях детского сада;
- проводится разработка и подготовка учебнометодического пособия соответствующей тематики.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования : приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 [Текст] // Российская газета. - 2013 (23 ноября).
2. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ [Текст] // Российская газета. - 2012 (31 декабаря).
3. СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - [Электронный ресурс]. - (http://pbprog.ru/documents/documents_element.php?section_id-131&)
4. Рыжова, Н.А. Экологическое образование в детском саду : кн. для педагогов дошк. учреждений, преподавателей и студентов ун-тов и колледжей [Текст] / Н.А. Рыжова. - М. : Карапуз, 2001. - 432 с.
5. Волобуева, Н.Г. Проблемы и перспективы создания условий, обеспечивающих педагогический процесс экологического образования дошкольников [Текст] / Н.Г. Волобуева // Вестник Сев.-Вост. гос. ун-та. -2008. - №10. - С. 71-76.
6. Волобуева, Н.Г. Участок дошкольного образовательного учреждения и особенности его организации в условиях г. Магадана [Текст] / Н.Г. Волобуева, К.А. Бережная // Актуальные проблемы дошкольной педагогики и психологии : сб. статей / Сев. междунар. ун-т. - Магадан, 2004. - С. 19-30.
7. Цыбуля, Н.В. Фитонцидные растения в интерьере (оздоравливание воздуха с помощью растений) [Текст] / Н.В. Цыбуля, Т.Д. Фершалова. - Новосибирск : Новосиб. кн. изд-во, 2000. - 112 с.
8. Цыбуля, Н.В. Всем нужен сад [Текст] / Н.В. Цыбуля, Т.Д. Фершалова // Обруч. - 2001. - № 3. - С. 34-39.
9. Меньшикова, Н.Л. Лекарственные растения - детям [Текст] / Н.Л. Меньшикова, Н.Л. Чистякова // Дошкольное воспитание. - 1991. - № 7. - С. 121-125.
10. Любарова, В.Т. Мир комнатных растений [Текст] / В.Т. Любарова // Дет. сад со всех сторон. - 2003. -№ 16. - С. 1-31.
11. Цицилин, А.В. Зелёные доктора [Текст] / А.В. Цицилин // Здоровье дошкольников. - 2009. - №1. -С. 2-11.
12. Рыжова, Н.А. Развивающая среда дошкольных учреждений (из опыта работы) [Текст] / Н.А. Рыжова. -М. : ЛИНКА-ПРЕСС, 2003. - 192 с.
13. Фокина, В.Г. Формируем предметно-развивающую среду [Текст] / В.Г. Фокина // Справочник старшего воспитателя ДОУ. - 2008. - № 3. - С. 31-37.
14. Потапова, Н.П. Экологизация предметно-развивающей среды [Электронный ресурс] / Н.П. Потапова. -(http://www.doncomeco.ru/127590855).
15. Николаева, С.Н. Система экологического воспитания детей в дошкольном учреждении [Текст] / С.Н. Николаева. - М. : Мозаика-Синтез. - 2005. - 310 с.
16. Широбокова, Г.В. Формируем предметно-развивающую среду [Текст] / Г.В. Широбокова, Е.Ю. Глухова // Справочник старшего воспитателя ДОУ. - 2009. - № 1. - С. 59-60.
17. Цыбуля, Н.В. Фитодизайн как метод улучшения среды обитания человека в закрытых помещениях [Текст] / Н.В. Цыбуля, Н.В. Казаринова // Растит. ресурсы. - 1998. - № 3. - С. 11-129.
18. Козупеева, Т.А. Цветы в интерьере и зимние сады на Крайнем Севере / Т.А. Козупеева, А.А. Лештаева, С.А. Миллер. - Л. : Наука, 1985. - 120 с.
19. Попова, М.Ю. Экологическое образование старшего дошкольного возраста (на материале ознакомления с комнатными растениями) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 [Текст] / М.Ю. Попова. - М. : Просвещение, 2001. - 19 с.
20. Александрова, М. Комнатное цветоводство [Текст] / М. Александрова, П. Александров. - М. : ЛабиринтПресс, 2003. - 416 с.
21. Марковская, М.М. Уголок природы в детском саду : кн. для воспитателя дет. сада [Текст] / М.М. Марковская - 2-е изд., дораб. - М. : Просвещение, 1989. - 144 с.
22. Надежкин, С.Н. Полезные, вредные и ядовитые растения [Текст] / С.Н. Надежкин., И.Ю. Кузнецов. -М. : КНОРУС, 2010. - 248 с.
23. Полный справочник полезных комнатных растений [Текст]. - М. : Престиж Книга; РИПОЛ классик, 2005. - 450 с.
24. Семёнова, А.Н. Комнатные растения: друзья и враги [Текст] / А.Н. Семёнова. - СПб. : Невский проспект, 1999. - 185 с.
25. Целебные свойства цветов от А до Я. 300 рецептов здоровья и красоты [Текст] // Справочник «Целебни-ка». - М. : Логос-Медиа, 2008. - 127 с.
26. Чуб, В.В. Полная энциклопедия комнатных растений [Текст] / В.В. Чуб, К.Д. Лезина. - М. : Эксмо, 2002. - 416 с.
УДК 37.013.72
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВОСПИТАНИИ В КОНТЕКСТЕ ОСМЫСЛЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА НАРОДА_
КАРТАШОВА Мария Михайловна,
аспирант кафедры общей и социальной педагогики,
Воронежский государственный педагогический университет
АННОТАЦИЯ. Автор предлагает задуматься над перспективами развития нашей цивилизации, обращая особое внимание на традиции и ценности отечественного воспитания. В поле зрения оказываются современные научные исследования, которые посвящены проблемам удержания и поддержания в воспитании целостного бытия развивающейся человеческой личности в контексте историко-культурного наследия. Рассматриваются особенности воспитания в отечественной школе, особенности мировидения и миросозерцания русского народа. В качестве итогового в статье формулируется положение о целесообразности восприятия личности воспитуемого как живого явления живой культуры, что обеспечит решение проблемы культурно-исторической, духовно-религиозной, национально-этнической определенности, становления и развития человека как творческой духовности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: воспитательные традиции, русская культура, особенности воспитания в отечественной школе, мировидение и миросозерцание русского народа.
KARTASHOVA M.M.,
Postgraduate Student of the Department of Social Pedagogy,
Voronezh State Pedagogical University
REFLECTIONS ON EDUCATION IN THE CONTEXT OF THE COMPREHENSION OF OF THE PEOPLE,S CULTURAL-HISTORICAL EXPERIENCE
ABSTRACT. The author proposes to reflect on development prospects for our civilization, paying particular attention to the traditions and values of national education. The author reviews current scientific studies that address the challenges related to retention and maintenance in a developing human personality’s education a holistic state of existence in the context of historical and cultural heritage. The article explores particular features of national education, characteristics of Russian way of world vision and contemplation. As a final issue, the article formulates a provision on feasibility of considering the personality of an educatee as a living phenomenon of living culture, which will constitute a solution to the problem of cultural-historical, spiritual-religious, national-ethnic identity.
KEY WORDS: educational traditions, Russian culture, features of education in the national school.
В настоящее время в России обострилась общественная потребность в том, чтобы разобраться в сущности процесса воспитания в современных социокультурных условиях. Эта необходимость напрямую связана с преодолением дезориентированности жизни наших современников. Здесь на первый план выступает зависимость перспектив нашей цивилизации от ответа на вопросы: какой человек нужен обществу, каковы идеалы современного воспитания?
Обратим внимание на увеличение в последние годы числа исследований в области педагогики, которые направлены на решение проблемы удержания и поддержания в воспитании целостного бытия развивающейся человеческой личности в контексте историко-культурного наследия (Е.П. Белозерцев, Е.В. Бондаревская, А.А. Гагаев, П.А. Гагаев, И.В. Метлик, В.И. Слободчиков и др.). Отметим и тот факт, что все большее количество ученых предупреждает о возможных последствиях и опасностях забвения складывающихся веками воспитательных традиций (А.В. Репринцев, М.В. Шакурова и др.).
Как видим, такие проблемы, как удержание и защита смысла исторического бытия народа, а также культурно-исторической, духовно-религиозной, национально-этнической определенности, остро стоят в системе отечественного образования и воспитания, указывая на опасную тенденцию отторжения межпоколенческих связей.
В контексте вышеуказанных проблем особого внимания заслуживает обращение к работе А.А. Га-гаева, П.А. Гагаева [3], в которой рассматриваются антропологические, онтологические, аксио-гносеологические, психологические основания отечественной школы как социокультурного института. Эти основания в свою очередь помогают учесть онтологическое единство составляющих процесса воспитания:
Культурно-педагогическая среда бытия воспитанника.
Личность воспитанника.
Предмет усвоения-переживания воспитанника (содержание образования).
Деятельность воспитанника, его бытие в школе.
Деятельность воспитывающего.
Информация для связи с автором: mishelek.bz@yandex.ru
Отметим, что именно такое наполнение процесса воспитания вписывает его в пространство культуры, обеспечивает понимание важности миссии служения одного поколения другому.
Таким образом, рассмотрение личности воспи-туемого как живого явления живой культуры обеспечит решение проблемы осмысления исторического бытия народа, становления и развития человека как творческой духовности. Вместе с тем воспитание как сущностная сторона культурно-исторического типа должно учитывать присущие конкретному народу ценности.
К вопросу об особенностях воспитания в отечественной школе.
Тема воспитания детей в России имеет глубоко исторические корни. Феномен русской культуры и особенности воспитания в отечественной школе исследовались в течение многих десятилетий, предпринималось множество попыток охарактеризовать особенности воспитания в отечественной школе. Однако следует признать, что многие приходят к утверждению о том, что «школа как социокультурный институт не может уклониться от решения проблемы предоставления воспитаннику опыта переживания и осмысления оснований бытия материнской для него культуры» [2, с. 72]. Согласно Н.Я. Данилевскому, к материнской культуре относится религиозная составляющая бытия человека определенной культурно-исторической традиции.
Исследователи культурных традиций и истории отечественной педагогики (Е.П. Белозерцев, А.А. Корольков, Н.В. Маслов, Н.Ю. Налётова, Т.И. Петракова, В.Ю. Троицкий и др.) пришли к выводу о том, что стержнем культуры русского народа является православное учение, которое дает глубокое понимание первосмысла образования и воспитания.
Известно, что национальная культура, в основе которой лежит система духовных ценностей, является источником содержания воспитания. Воспитание же в свою очередь сохраняет и транслирует из поколения в поколение самобытную русскую культуру, чье своеобразие определяется особенностями мировидения и миросозерцания русского народа.
Традиционное для российского культурного самосознания религиозно-церковное миросозерцание берет начало со времен крещения Руси.
С миросозерцанием, характерным для Древней Руси (искание цельности в Бого- и миропознании, видение в духовном подвиге спасение человека, переживание собора людей как нравственной формы существования и др.), будет связано в последующие века (XVIII-XX) развитие представлений о воспитании в педагогике И.Т. Посошкова (воспитание через приобщение к абсолютным ценностям), Н.И. Новикова (воспитание человека счастливым), А.С. Хомякова (соборный человек как идеал воспитания), В.Г. Белинского (цель воспитания - человечность), В.В. Розанова (воспитание посредством введения в культуру), В.В. Зеньковского (христиан-ско-православная антропология как основание воспитания) и др.
На рубеже XX-XXI вв., осмысливая историкокультурное наследие, историю отечественного образования, В.М. Кларин, В.М. Петров [4], Е.П. Белозерцев [1] выводят три интегральные константы русской школы:
Духовность.
Открытость.
Традиционность.
В работе В.М. Кларина, В.М. Петрова «Идеалы и пути воспитания в творениях русских религиозных философов XIX-XX вв.» духовность понимается как «обострённое внимание к религиозной теме, к сфере абсолютного, вечного» [4, с. 25]. Более того, авторы отмечают, что укорененность в российском образовании этого качества-константы настолько сильна, что духовность не исчезает и при упадке религиозности, отходе от церкви. Многие современные исследователи признают, что рассмотрение духовности как константы системы образования и воспитания становится особенно актуальным в последнее время. Анализ научно-педагогических исследований последнего десятилетия показывает участившееся в педагогических исследованиях использование понятий «духовность» и «духовное»: «духовно-нравственное воспитание» (арх. Зиновий (Корзинкин), Т.И. Петракова), «духовные знания» (В.И. Гинецинский), «духовные способности», «духовное состояние» (В.Д. Шадриков), «духовная сущность учительского труда» (Е.П. Белозерцев), «духовно-нравственное становление» (В.А. Беляева), «духовная безопасность» (С.Ю. Рыбаков) и др.
Вторая константа - открытость - способность русской культуры и образования открываться внешним влияниям, впитывать зарубежные ценности, духовно обогащаться и преобразовывать их, сохраняя свою неповторимость и единственность.
Традиционность рассматривается как «опора на традиционную народную культуру и эмпирически сложившийся порядок образования человека» [1, с. 101].
Эти три константы - духовность, открытость, традиционность - делают явление русского воспитания целостным и позволяют увидеть его природу в самых общих чертах.
Итак, для эффективной организации воспитания важно знать, что и воспитание и педагогика в целом необходимо включают в себя основополагающие ценности и начала той культуры, в которой они сами сформированы и которую они воспроизводят.
Сегодня каждому надо помнить, для возрождения системы российского образования и воспитания, принятой большинством граждан, необходимо выстроить траекторию развития современного общества с учётом присущих данному народу ценностей, а не путем проб и ошибок, невразумительных, формальных преобразований.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Белозерцев, Е.П. Образ и смысл русской школы: Очерки прикладной философии образования [Текст] / Е.П. Белозерцев. - Курск : Мечта, 2013. - 465 с.
2. Гагаев, А.А. Религия и школа России: сущность православных педагогических традиций [Текст] /
А.А. Гагаев, П.А. Гагаев // Интеграция образования. - 2002. - №4. - C. 72-80.
3. Гагаев, A.A. Русские философско-педагогические учения XVIII-XX вв. [Текст] / А.А. Гагаев, П.А. Гагаев. - М. : Русское слово, 2002. - 464 с.
4. Кларин, В.М. Идеалы и пути воспитания в творениях русских религиозных философов XIX-XX вв. [Текст] / В.М. Кларин, В.М. Петров. - М., 1996. - 124 с.
5. Шакурова, М.В. Диалектика традиций и инноваций в образовании: риски преемственности или скрытые противоречия? [Текст] / М.В. Шакурова // Психолого-педагогический поиск. - 2014. - № 2(30). -С. 7-19.
УДК 378.6
СРЕДОВОЙ ПОДХОД
К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ОФИЦЕРОВ РОССИЙСКОЙ АРМИИ В КОНТЕКСТЕ ВЫЗОВОВ СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ)
доктор педагогических наук, профессор кафедры общей и социальной педагогики,
Воронежский государственный педагогический университет;
заместитель начальника,
Московское высшее военное командное училище
АННОТАЦИЯ. Констатируется несоответствие текущих информационно-ценностных атак на российскую культурную идентичность, осуществляемых с формально-просвещенческих и формальнопостмодернистских позиций, истинному модерну и истинному постмодерну, их высокая агрессивность к этим теоретико-этическим контекстам, нацеленная на итоговое «сворачивание». Выявляется комплементарность и адекватность средового подхода к образованию как педагогико-средовым особенностям современной эпохи геополитических и информационно-ценностных противостояний, так и целям воспитания педагогической культуры будущих офицеров Российской армии и флота, адекватной вызовам современной эпохи, а также современным особенностям их службы, связанной в том числе и с задачами эффективного купирования попыток ментально-нравственного преобразования сознания рядовых российских военнослужащих.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационно-ценностные вызовы современной эпохи, модернизм и постмодернизм, традиционная культура, народы Писания, Пост-Запад, неоконсервативные силы, российский менталитет, культурно-ценностная идентичность рядового состава Российской армии и флота, педагогическая культура будущих офицеров Российских Вооружённых Сил, средовой подход к образованию, теоретическая модель воспитания педагогической культуры будущего российского офицерского корпуса.
Dr. Pedagog. Sci., Professor of the Department of General and Social Pedagogy,
Voronezh State Pedagogical University;
Deputy Chief,
Moscow Military Commanders Training School
ABSTRACT. The article establishes that current information and value attacks on Russian cultural identity, performed from formal educational and formal postmodern positions, comply with neither genuine modernism nor genuine postmodernism, furthermore, their utmost aggressiveness towards these theoretical and ethical contexts is aimed at their final ''folding''. The study reveals complementarity and adequacy of the environmental approach to education as pedagogical and environmental features of the modern era of geopolitical and informational value oppositions, as well as to the goals of cultural education of future officers of the Russian army and navy, adequate to challenges of the modern era, along with contemporary features of their service, related, among other things, to the tasks of effective ceasing the attempts promoting mental and moral transformation in the consciousness of ordinary Russian servicemen.
KEY WORDS: information-value challenges of the modern era, modernism and postmodernism, traditional culture, peoples of the Scripture, the post-West, neoconservative forces, Russian mentality, cultural and value identity of private soldiers of the Russian army and navy, the pedagogical culture, environmental approach to education, theoretical model of pedagogical culture education of the future Russian officer corps.
Информационно-ценностное противостояние тех или иных геополитических конкурентов имело место всегда и во все эпохи, но ещё никогда оно, на наш взгляд, не принимало настолько масштабного, поистине глобального, отчётливо культуроцидного и бескомпромиссного характера, как в наши дни.
Причём одной из главных особенностей этого периода является то, что противостояние это в первую очередь происходит не столько между отдельными странами (хотя, конечно, и это имеет место),
Информация для связи с автором: belozercev_e@mail.ru
но преимущественно между национально-цивилизационными и этическими суверенитетами, с одной стороны, и с другой стороны, транс- и наднациональными структурами современного нам Пост-Запада1, который самыми разными и порой даже взаимоисключающими друг друга мировоззренческими и этико-теоретическими контекстами довольно тщательно маскирует как само своё участие в этом противостоянии, так и его инициацию.
Противостояние это, однако, уже невозможно скрыть. Проявляется оно и в оппозициях между аппаратом Евросоюза и национальными менталите-тами в странах Старого Света, и в попытках дискредитировать саму идею национального государства и национально-культурного многообразия, и даже в усилении сепаратистских тенденций в ещё вчера будто бы единой Европе и США, что является естественной и закономерной реакцией как на культурно-национальный «тиглеплавильный» нигилизм уже давно транснациональных и даже вненациональных, так называемых социальных, элит в односторонне и культуроцидно глобализирующемся мире, так и на их не менее нигилистические попытки противопоставить естественному культурнонациональному и цивилизационному структурированию мира некий искусственный «мультикульту-рализм» в ещё недавно национальных странах, в рамках которого невозможны ни нормальное воспроизводство национально-культурной и этической идентичности, ни какой-либо действительно полноценный, а не декоративный национально-культурный и цивилизационный суверенитет.
Более того, сквозь призму именно этого противостояния следует, как полагаем, рассматривать и внешне вполне обычные все остальные геополитические столкновения современности. В том числе и потому, что все границы между локально-цивилизационными суверенитетами не только уже давно выяснены, но и, что также отчётливо осознаётся, определяются вовсе не тем или иным геополитическим романтизмом, но исключительно природой, климатом и географией, то есть имеют объективноестественный, а не какой-либо произвольный характер. Тем не менее столкновения между странами, пусть и уже давно достаточно неклассические, продолжаются.
Становится ясно, что инициируются и подогреваются они именно транснациональными структурами и их идеологией2, причём со всё той же целью итоговой депрессии естественной и при этом вполне постмодернистской национально-локальной и культурно-этической суверенности мироздания. Представлены же эти последовательно культуроцидные структуры транснациональными корпорациями и транснациональными банками3 современного нам Пост-Запада, а также обслуживающей их глобалистские претензии, так называемой неоконсервативной идеологией. Идеология эта, как ни странно, имеет преимущественно революционные - троцкистские и левомарксистские - теоретические корни и
1 См.: Бьюкенен П.Дж. Смерть Запада. - М., 2007.
2 См.: Арон Л. США и Россия: отношения сквозь призму идеологий // Россия в глобальной политике. - 2006. -№3; Орлова И.Б. Евразийская цивилизация. Социальноисторическая ретроспектива и перспектива. - М., 1998.
3 См. Кортен Д. Когда корпорации правят миром. - СПб., 2002; Орлова И.Б. Евразийская цивилизация. Социальноисторическая ретроспектива и перспектива. - М., 1998. -С. 5; Мартин Г.П., Шуман Х. Западня глобализации. -М., 2001.
4
истоки,7 но при этом, во-первых, вполне уютно соединяется именно с империалистическими устремлениями и, кроме того, во-вторых, вполне политкорректно паразитирует, на наш взгляд, на культурах народов Писания, в первую очередь на ещё совсем недавно вполне христианской, традиционалистской и просвещенческой культуре стран современной нам Северной Америки. Указанный паразитизм, а также отчасти всегда принципиально временный симбиоз неоконсервативной идеологии некоторых культур и народов Писания8, по крайней мере, ещё не так давно бывших таковыми9, не только не мешают атакам «неоконов» на традиционную идентичность стран-носителей этой идеологии и соответствующую этим атакам «коррекцию» их традиционной культуры, итогом чего является изнуряющая эти страны «шизофрения культуры» (С. Хантингтон10), также известная в России как «болезнь европейничания в русской жизни» (Н.Я. Данилевский11), но, как полагаем, прямо предполагают эти атаки в первую очередь для обеспечения толерантности этих культур к использующим их паразитарным структурам (к «неоконам» - в США, марксистам и коммунистам - в России -СССР и Китае).
Кроме того, в странах Запада имеет место и встречный процесс, связанный с буржуазным перерождением революционных элит, вполне аналогичный тому олигархическому перерождению ближайших потомков вчерашних «пламенных революционеров», который имел место в России - СССР: вначале в политико-идеологическую олигархию в виде партийно-государственной номенклатуры, а затем, в начале 1990-х годов, путём конвертирования части номенклатурной власти и суверенитета страны во власть чисто экономическую и в самую обычную, в том числе и современную нам, экономическую олигархию (не утратившую, однако, и политической власти).
Именно с этим итоговым полным перерождением под влиянием «тонкого обаяния буржуазии» практически всей марксистско-левацкой идеологии связан, кстати, и характерный пессимизм у всех наиболее последовательных идеологов мировой революции (в итоге, однако, не только вполне разочаровавшихся в ней, но даже и отказавшихся от части наиболее одиозных своих работ) от М. Хоркхай-мера и Д. Лукача до Г. Маркузе, резко нарастающий к концу их жизни, что, так или иначе, отра-жёно и во всех их биографиях12.
Подчеркнём также, что осуществляется отмеченное противостояние довольно однобоко, так как масштабные акции, направленные на почти просвещенческую дискредитацию национально-локальных и этических суверенитетов, в том числе и этических суверенитетов стран-носителей неоконсервативной идеологии13, осуществляемые в постмодернистскую эпоху от имени некоего, будто бы универсально значимого и некоего, будто бы действительно глобального сообщества, практически никак не купируются ни с позиций просвещенческого альтруизма и универсализма, ни с позиций постмодернистской легитимации культурных различий, ни с позиций культурно-экологических (и «модернист-ски-постмодернистских»), исходящих из представлений о необходимости культурного разнообразия как важнейшего условия мирового прогресса (Н.Я. Данилевский 14, А. Тойнби15, К. Ясперс 16, Г.Д. Гачев17).
Таким образом, на все действующие мировые суверенитеты системно и весьма эффективно нападают, а на «глобальное сверхобщество» 18 не только не нападает почти никто, в том числе и в силу его без-адресности и неуловимости, но практически никак не отвечают и на его вовсе небезобидные атаки.
Более того, вопреки постмодернистской легитимации всех эпох, культурных миров и традиций 19, а значит и эпохи Модерна, или Просвещения, как одной из них, именно в наши дни так называемые «неоконсервативные убеждения» 20 системно и вполне тотально и тоталитарно сворачивают как универсально-альтруистический и глобальный проект Просвещения21, адресованный, как известно, всем мирам, традициям и культурам, так и наличную, то есть пока ещё существующую, несмотря на все старания «неоконов», вполне постмодернистскую, культурную множественность мироздания22.
Полагаем очевидным, что в результате последовательного и довольно настойчивого стимулирования именно такого развития мировых событий неоконсервативная идеология покушается таким образом не только на традиционную культуру стран её носителей, но и на Модерн, и на Постмодерн, из чего следует, что её глобально-претенциозный, так называемый новый, консерватизм предполагает возврат всего мира в какие-то куда более древние эпохи. И, скорее всего, в эпохи именно тёмные, хотя нам почему-то не называемые, вероятно, как полагаем, из расчётливого беспокойства за наши необоснованно оптимистические, с его точки зрения, планы на будущее23.
По-видимому, это те самые эпохи, где ещё не было ни «восстания масс»24, ни просвещенческого альтруизма по отношению к ним, ни постмодернистской легитимации традиций и культурных разли-чий25. Но зато были представления об избранности и неизбранности, по которым даже характерные для тёмных эпох «битвы всего лишь за престиж», как, впрочем, и все иные, и вполне зоологические статусные игры, и игры интеллектуальные, и действительно духовные, никакого значения не имели, так как значимой была только одна принадлежность к категории неких, будто бы избранных по одному только своему рождению, имеющих право на всё в мире. Именно эту глубоко архаичную во всех смыслах идею, по всей видимости, и защищают эти, будто бы «новые», консерваторы, то есть её, собственно, и «консервируют», «прогрессивные» при этом, однако, до просто самой невозможной чрезвычайности и никому, кроме них самих, конечно, вовсе недостижимую26.
Если же учесть отчетливую антихристианскую и антитрадиционную нацеленность «неоконов», а также их легитимацию под политкорректными предлогами самых одиозных, безнравственных и порабощающих практик, ханжески разрешаемых вполне в духе «великого инквизитора» 27 у Ф.М. Достоевского28, то, скорее всего, это те эпохи, которые светом христианства, равно как и других контекстов Писания (то есть и Торы, и Корана, и Ветхого, и Нового Заветов), не только выводящих смысл жизни каждого человека за рамки только самой его жизни (к «Дню Восьмому» и «жизни будущего века»), но и обеспечивших весь подлинный прогресс мирового человечества, прежде всего прогресс нравственно-этический, ещё не были озарены.
Посредством ангажированных в мировом масштабе СМИ29 системные акции эти, как уже многим
20 См. также: Слободчиков В.И. Антропологический кризис в современной европейской культуре. -(http://pravoslavie.ru/jurnal/280.ht).
21 См.: Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс : пер. с исп. -М. : АСТ, 2001.
22 Тойнби А. Дж. Постижение истории. - М., 1991.
23 См. также: Энгельгардт М.А. Прогресс как эволюция жестокости. - СПб., 1899.
24 См., например: Kristol I. AIDS and False Innocents // Kristol I. Neoconservatism: the Autobiography of an Idea. -New-York etc : The Free Press, 1995. - P. 63-66; Kristol I. Pornography, Obscenity, and the Case for Censorship // The neocon Reader / (ed) Irwin Stelzer. - New York : Grove Press, 2004; Райх В. Сексуальная революция / под ред. В.П. Наталенко. - (htt:// www, bookap. Ru).
25 См.: Достоевский Ф.М. Великий инквизитор // Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : в 2 ч. - М., 1972. -Ч. 1. - С. 278-300.
26 См.: Васильева Л.А. Ролевые функции СМИ в процессе
политической мифологизации : монография. - Саратов : Вузовское образование, 2015. - 248 c. -
(http://www.iprbookshop.ru/39115); ООН официально при-
27 «
стало очевидно2', нацелены на весь мировой, и прежде всего российский, социум. Но в первую очередь они ориентированы на детей и юношество28, на внешнее управление их, как правило, ещё неокрепшим сознанием, в том числе (а иногда и в первую очередь) и сознанием, и нравственностью будущего контингента рядовых военнослужащих, которые в российских реалиях в большинстве своём, сразу по выходу из школы, и станут субъектами того или иного педагогического взаимодействия с ними будущих российских офицеров. Принимая эстафету воспитания непосредственно от школьных учителей России29, но при этом почти никак и почти никогда не взаимодействуя с ними, что, конечно, препятствует совершенно необходимой преемственности в вопросах культуросообразного воспитания будущих военнослужащих, российский офицер, таким образом, прямо продолжает именно их порой почти безнадёжное30 противостояние системным, небывало эффективным и технологичным электронно-сетевым и педагогико-средовым ментальнопреобразовательным и культуроцидным практикам, организуемым в наши дни в поистине планетарном масштабе очередными претендентами на глобальную, всеохватную и безответственную власть, при этом не только искусно паразитирующих на юношеской неинформированности во многих вопросах и юношеском же максимализме, но и использующих в своих практиках все доступные им и чрезвычайно значительные средства. В «имплозивном» или «схлопнувшимся» мире31, где пространство кардинально изменило свои привычные свойства и уже не выполняет своих изолирующих и охранительных функций, успешно конкурировать с этими глобального масштаба информационно-ценностными прак-
знала Россию страной-агрессором. -
(www.youtube.com/watch?v=FBZG2SepfhI); Sasha Sotn. Киевляне - москвичам: «Россия - агрессор, а не помощник. - (https://www.youtube.com/watch?v=MolSC28-a9U); Sasha Sotnik. Москвичи: «Крым ничего не дал. Он только взял». - (https://www.youtube. com/watch?v=43e 4fBO DMe8); Alexander Nevzorov. Крым 3 года спустя (интервью Айдеру Муждабаеву). - (https:// www.youtube. Com /watch?v=eZHOC9G6i5c); Невзоров о Донбассе и Украинской армии. - (https://www. youtube. com/ watch?v =iAG6 CRmVOw); «Тэнгу, запомните мои слова», - Кравчук рассказал, что будет с Путиным. - (https: //www.youtube.com/watch?v=fO7lxZZnqeM); Климкин: «Москва взяла курс на создание «новой Российской империи». 26 марта 2017, 17:0о. - (http:// allpravda. info/ klimkin-moskva-vzyala-kurs-nasozdanie-novoy-rossiyskoy-imperii-39329.html).
27 См., например: Зеленков М.Ю. Основы теории национальной безопасности : учебник для студентов вузов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 296 с.
28 См.: Ефимова Л.Л. Информационная безопасность детей. Российский и зарубежный опыт : монография / Л.Л. Ефимова, С.А. Кочерга. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 239 с.; Журавлева Н.А. Актуальные тенденции в ценностных ориентациях молодежи в современном российском обществе // Психологическое здоровье личности и духовно-нравственные проблемы современного российского общества / М.И. Воловикова [и др.]. - М. : Институт психологии РАН, 2014. - 320 c.
29 См.: Рубцова О.Б. Среда как фактор воспитания // Со
циальное взаимодействие в различных сферах жизнедеятельности : материалы II Международной научно
практической конференции. - СПб. : РГПУ им. А.И. Герцена, 2012. - С. 76-83.
30 См.: Кольцова В.А. Дефицит духовности и нравственности в современном российском обществе // Психологический журнал. - 2009. - № 4. - С. 92-94.
31 См.: Маклюэн Г.М. Понимание Медиа: Внешние расши
рения человека. - М.; Жуковский, 2003; Маклюэн М. Галактика Гутенберга: Сотворение человека печатной
культуры. - Киев : Ника-центр, 2003.
тиками очень сложно30. Но делать это тем не менее необходимо, и в первую очередь средствами военной педагогики, так как именно от успеха этой конкуренции и зависит исход необъявленной, но уже сейчас идущей войны за умы и нравственность будущих российских воинов, которая со стороны конкурентов и оппонентов России явным образом стремится к «достижению военных целей невоенными средствами»31. В том числе и в связи с этим нам необходимо, по завету А.В. Суворова, «учить тому, что требуется на войне»32.
Но коль скоро военные действия таким очевидным и небывало агрессивным образом переместились в традиционно невоенную сферу, а именно в традиционно педагогическую и национальноинтимную сферу формирования национального (народного) общественного сознания, и в первую очередь с помощью социально-педагогических и педа-гогико-средовых технологий, то и учить будущих российских офицеров необходимо тому, как противостоять именно этим небывало масштабным формально-педагогическим, социально-средовым и пе-дагогико-средовым технологиям, почти очевидным образом и нацеленным на ментально-нравственное преобразованию российского социума как в его целом, так и сознания его военнослужащих, что уже негативно сказывается на нравственно-психологическом состоянии как всего социума в целом33, так и военнослужащих в частности. Очевидно также, что нацелены эти глубоко продуманные, фактически тотальные, чрезвычайно технологичные и мастерски исполняемые акции на сознание и самих будущих офицеров, возможно, находя и в их ещё вполне юношеской ментальности какие-либо слабые места, что ещё более может затруднить их педагогические функции по отношению к рядовому составу. Паразитирующие на характерной для юношеского сознания критичности к ценностям старшего поколения вкупе с их высокой технологичностью, акции эти, фактически являющиеся военноинформационной политикой геополитических врагов исторической России, вполне могут, как однозначно свидетельствуют и события последней русской революции, состоявшейся на наших глазах на Украине34, привести к изменению российской ментальности, к кардинальной, если не тотальной, «мутации русского духа»35. В этом контексте известное высказывание не то победителя Наполеона III - фельдмаршала Мольтке, не то не менее известного Отто фон Бисмарка36 37 38 о том, что «войны выигрывают не генералы, но школьные учителя и приходские священники» (см. также «Речи к немецкой нации» И.Г. Фихте37), следует, во-первых, дополнить офицерами-педагогами, которые наряду со священниками и учителями также выигрывают все победоносные войны, а во-вторых, ещё и тем важнейшим обстоятельством, что в зависимости от качества их военно-педагогической деятельности и проигрывают все проигранные войны именно они, то есть вместе с учителями, священниками, а также и всей той или иной культурно-образовательной средой своего народа.
Очевидно, что в контексте отмеченных педаго-гико-средовых вызовов современной нам культуро-цидной эпохи всему педагогическому сообществу России, в том числе и офицерскому составу её Вооружённых Сил, остро необходимо найти адекватные именно этим вызовам современной культуроцидной эпохи ответы. И именно ответы, связанные с необходимостью достаточно эффективного противостояния средовым технологиям обработки общественного сознания, в том числе и сознания российских военнослужащих, то есть именно тем технологиям, которые используются, как отмечено, в первую очередь для достижения военных целей формально невоенными средствами, но тем не менее вполне укладывающихся в те средства, которым и должны противостоять современные оборонительные структуры России, в первую же очередь её офицеры.
Современный воинский труд38, таким образом, волей-неволей ориентирует военно-педагогическое мышление на освоение именно средовых педагогических технологий, в том числе и геополитических оппонентов России, в первую очередь в аспекте поиска возможностей достаточно эффективного противостояния их отчётливо культуроцидной наполненности, их небывалой агрессивности, имеющей место, как показано, со стороны так называемых неоконсервативных сил, агрессивных также и по отношению ко всем традиционным культурным и нраственно-этическим суверенитетам мира. В этой связи полагаем также, что именно данное обстоятельство, во-первых, открывает нам потенциальных союзников России по всему миру, а во-вторых, что, на наш взгляд, прямо вытекает из предпринятого здесь поиска, открывает нам потенциальное поле для средовых технолого-педагогических операций по противодействию средовым ментальнопреобразовательным практикам геополитических оппонентов России.
Полагаем очевидным также, что как принципиальная способность именно к таким операциям, так и специально сформированные знания, умения, навыки и компетенции в этой области, необходимым образом должны стать самыми важными компонентами адекватной современным вызовам педагогической культуры будущих офицеров Российской армии и флота.
В том числе предполагает это, на наш взгляд, и достаточно развитые знания, умения и навыки будущих российских офицеров по противостоянию культуроцидным и ментально-преобразующим пе-дагогико-средовым и фомально-педагогическим технологиям, в первую очередь в СМИ и социальных сетях, где и проводит большую часть своего времени современное подрастающее поколение, то есть именно там, где культуроцидная и ментальнопреобразующая практика в наши дни более всего и применяются.
39 Фихте И. Г. Речи к немецкой нации / пер. с нем. А.А. Иваненко. - СПб. : Наука, 2009. - 349 с.
40 Лаптев Л.Г., Гатилов С.П., Кондаков А.М. Воинский труд: Наука, искусство, призвание. - М., 2013.
Именно такому развитию педагогической культуры будущего офицерского корпуса России способствует, на наш взгляд, и то обстоятельство, что адекватных, в том числе и просто рациональных, возражений этой практике, по сути, до сего дня просто не было, так как её активисты выбрали для неё именно то поле, где им просто пока так и не было и всё ещё нет никаких сколько-нибудь подготовленных оппонентов. Поэтому здесь дело не в некой особой убедительности этой практики, но в том, что её рациональным конструктам пока просто ничего так и не было противопоставлено.
Не менее важным в контексте педагогико-средовой специфики современных информационно-ценностных и геополитических противостояний считаем также своевременное информирование будущих офицеров о принципиальных как идеологических, так и, собственно, педагогических истоках современной культу-роцидной и ментально-преобразующей практики, прямо связанной, по-видимому, со средовыми поисками 1920-х - 1930-х годов в России - СССР39, в том числе и так называемых левых сил, составивших чуть позднее основной корпус как международного троцкизма и «левых марксистов»40, так и современных нам «неоконсерваторов»41.
Проведённый обзор педагогико-средовых особенностей вызовов современной нам культуроцидной эпохи, таким образом, вполне позволяет уже сейчас очертить некоторые важнейшие и, на наш взгляд, принципиальные контуры, а также и некоторые названные выше не менее важные составляющие необходимой новой теоретической модели воспитания педагогической культуры будущих офицеров Российской армии и флота.
В этой связи ещё раз подчеркнём также, во-первых, отчётливый технолого-педагогический характер современного нам контекста геополитических и информационно-ценностных противостояний, если не по целям (имеющим неафишируемый и именно антиобразовательный, буквально «летальный», как явно вопреки своим же целям проговорился Э.Д. Днепров42 43 44 45, а потому и антипедагогический характер), то, по крайней мере, в технологическом смысле; а во-вторых, тот факт, что этот технолого-педагогический характер имеет преимущественно не узко-школьный масштаб, но масштаб глобально-средовой, который, даже в силу одного только этого, может восприниматься и, к сожалению, довольно часто, как показывает практика, воспринимается как более универсальный, чем какой-либо школьный масштаб, и уже только поэтому потенциальным жертвам такой внешкольной, но надшкольной и средовой педагогики может казаться как будто бы более убедительным. Третьей и, на наш взгляд, важнейшей особенностью современного нам контекста информационно-ценностных и военнопедагогических по своему характеру и нацеленности противостояний современности, осознание чего очевидным образом следует в том числе и из предпринятого здесь рассмотрения, является тот факт, что геополитические оппоненты исторической и современной России (не чуждающиеся и сугубо школьных43, и философско-образовательных средств44, как полагаем, продвигаемых и в российскую школу, и в российские СМИ, и в целом в информационно-ценностную действительность российской культурно-образовательной среды через их адептов по механизмам так называемой «пятой колонны»45') уже давно и чрезвычайно эффективно используют в своих информационнопедагогических и ментально-преобразовательных
45 См.: Развитие образования в России. Национальный доклад / под ред. министра образования РФ Э.Д. Днепро-ва. - СПб., 1992.
46 См., например: Гершунский Б.С. Стратегические приоритеты развития образования в России // Педагогика. -
1996. - №5. - С. 46-55; Гершунский Б.С. Россия: Образование и будущее (Кризис образования в России на пороге XXI века). - Челябинск, 1993; Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. - М., 1998.
47 См. также: Данилевский Н.Я. Происхождение нашего нигилизма. По поводу статьи «Этюды господствующего мировоззрения» // Русь. - 1881. - № 22, 23; Данилевский Н.Я. Происхождение нашего нигилизма // Селивёрстов Ю.И. Из русской думы. Портреты отечественных мыслителей с письмами, статьями и просто раздумьями, сложенные Юрием Селивёрстовым в книгу: в 2 т. - М., 1995. - С. 200-203; Данилевский Н.Я. Несколько слов по поводу конституционных вожделений нашей «либеральной прессы» // Сборник политических и экономических статей. - СПб., 1890. - С. 220-230; Данилевский Н.Я. Г-н Соловьев о православии и католицизме // Данилевский Н.Я. Сборник политических и экономических статей. -СПб., 1890. - С. 272-312; Зиновьев А. Запад: феномен западнизма. - М., 1995; Панарин А.С. Народы без элит: между отчаянием и надеждой // Философия хозяйства. Альманах Центра. - 2002. - №1. - C. 52; Леонтьев К.Н. Чем и как наш либерализм вреден? // Леонтьев К.Н. Избранное. - М., 1983. - С. 123-142; Медведева И., Шишова Т. Запах серы: об оккультных корнях РАПСовской идеологии // Народное образование. - 2001. - № 2. - С. 182; Костенко И. Стратегическая задача российского образования и политизированная педагогика // Alma mater. -
1997. - № 7. - С. 13-19; Олейникова О.Д. Трансформация приоритетных тенденций развития российского образования и воспитания // Философия образования. - 2002. - № 5; Пантин В.И., Лапкин В.В. Трансформация национально-цивилизационной идентичности современного российского общества: проблемы и перспективы // Общественные науки и современность. - 2004. - № 1. С. 52-63; Панченко А.М. Начало петровской реформы: идейная подоплёка // XVIII век: Итоги и проблемы изучения русской литературы XVIII века. - М., 1989; Сороковых В.В. Глобализация и обобщения Н.Я. Данилевского в контексте проблем образовательной среды российской цивилизации // Философские и психолого-педагогические проблемы развития образовательной среды в современных условиях: материалы Международной научно-практической конференции. -Воронеж, 2008. - Ч. 1. - С. 199-203.
48 «
атаках46 на российскую идентичность, в том числе и на нравственную идентичность российских военнослужащих, именно и преимущественно средовой подход к образованию (хотя цели при этом, как отмечено, преследуют именно и почти очевидно антиобразовательные), пусть и не называя его именно так, но при этом весьма активно используя именно его высокие достоинства.
Самым же явным доказательством эффективности этой глубоко циничной практики (как по отношению к педагогике, так и по отношению к образованию и в не меньшей мере по отношению к жертвам этой ментально-преобразовательной активности) является тот факт, что уже как минимум четыре редакции российской государственности - допетровская (во времена Петра I), петровская (в феврале 1917 года), буржуазно-демократическая (в октябре 1917 года), советская (в 1991 году) - пали под влиянием именно этой практики и именно в результате вполне аналогичных культуроцидных атак на традиционную российскую культурно-аксиологическую идентичность.
Не менее важной (четвёртой) особенностью рассмотренного контекста современного осуществления образования является также и тот факт, что, несмотря на наличие в современной России сразу двух школ, активно развивающих традиции именно сре-дового подхода к образованию (Е.П. Белозерцева47 и Ю.С. Мануйлова48), имеющих, кроме того, значительную и именно российскую ретроспективу49, к развитию военного, и именно военно-педагогического образования, в том числе и к воспитанию педагогической культуры будущих российских офицеров, сколько-нибудь заметным и адекватно масштабным образом этот подход ещё ни разу не привлекался.
Полагаем, что это обстоятельство резко противоречит как выявленным «средовым» особенностям современных глобально значимых информационнонравственных и геополитических противостояний, так и потребностям воспитания педагогической культуры будущих офицеров Российской армии, адекватной этим особенностям, способной, в частности, уверенно и успешно противостоять системным и негативно-средовым воздействиям на ментальность, нравственность и систему ценностей российских военнослужащих.
Одни только эти обстоятельства ориентируют современное военное и именно военно-педагогическое мышление на поиск такого подхода к образованию и к воспитанию педагогической культуры будущего офицера Российской армии, который был бы наиболее адекватным отмеченным особенностям современного нам периода информационно-ценностных и геополитических противостояний в глобализирующемся мире. Полагаем очевидным, что даже в контексте только здесь приведённых особенностей современного развития культурно-образовательной среды России и химерно глобализирующегося мира наиболее соответствующим таковым подходом (что, конечно, не отменяет важности и всех других научно-педагогических школ50) является именно средо-вой подход к образованию51 в современной России, эффективно развиваемый в наши дни взаимодополнительными друг другу исследованиями и средовы-ми школами, представленный также и рядом работ их многочисленных последователей52.
УДК 37.017.924
кандидат педагогических наук, заместитель директора, МБОУ «Лицей №3 им. К.А. Москаленко», г. Липецк
АННОТАЦИЯ. Педагогическое наследие КА. Москаленко сохраняют свою актуальность и в наши дни. Разработанные ученым, педагогом-новатором в 60-е годы XX века гуманистические идеи и педагогическая система способствуют решению проблем обучения и воспитания современных школьников с позиции гуманистического подхода.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гуманизм, ценности, гуманистические идеи, педагогическая система, гуманистические отношения, гуманные технологии.
Cand. Pedagog. Sci., Deputy Head Teacher,
Minicipal Bugetary Educational Institution «Lyceum №3 named after A.G. Moskalenko», Lipetsk
ABSTRACT. The article introduces readers to pedagogical heritage of KA. Moskalenko. The humanistic ideas and pedagogical system developed by the scientist, the teacher-innovator in the 1960s, keep the relevance, since they contribute to solving the problems of teaching and educating modern schoolchildren from the position of a humanistic approach.
KEY WORDS: humanism, values, humanistic ideas, pedagogical system, humanistic relations, humane technologies.
В 2017 году исполняется 100 лет со дня рождения Константина Александровича Москаленко [1]. К.А. Москаленко - это ученый, педагог-новатор, в 60-е годы XX века он был идейным вдохновителем и организатором массового движения творческих учителей страны и «Липецкого опыта» рациональной организации урока. Известность в стране и за рубежом получила его статья «Как должен строиться урок? В порядке обсуждения...», которая была опубликована в журнале «Народное образование» №10 в 1959 году. Оценивая вклад ученого в педагогическую теорию, В.П. Кузовлев писал о том, что К.А. Москаленко «и до настоящего времени является непревзойденным образцом соединения передовой педагогической мысли и творчества школьных учителей» [2, с. 78].
В 60-е - 70-е годы XX века, возглавляя кафедру педагогики и психологии Липецкого педагогического института (ныне педагогический университет), он разрабатывал проблему гуманистического воспитания школьников как средства повышения качества учебно-воспитательного процесса и знаний учащихся.
Гуманизм - это особый принцип (тип) мировоззрения или система установок, в центре которых как высшая ценность находится человек с присущими ему убеждениями, способностями и безграничными возможностями; их свободному проявлению в деятельности или в общении способствует доброжелательное и уважительное отношение к личности и ее достоинству.
В задачи философского гуманизма всегда входило теоретическое осмысление места идеала в структуре морального сознания, специфики морали как стержня культуры, соотношение обыденного и теоретического в моральном сознании, элементы истинного в различных формах ценностного сознания и т.п. [3].
Особый интерес представляют те опорные точки философского гуманизма, в рамках которых выстраивал свою педагогическую деятельность и педагогическую систему Константин Александрович Москаленко. Именно они дали ему возможность разработать гуманистические идеи обучения и воспитания, а также создать педагогический инструментарий, который и сегодня, в условиях развития современной общеобразовательной школы, помогает реализовывать и формировать:
- деятельностный подход к обучению (научить детей учиться, применять все полученные навыки и знания в жизни);
- гуманистический подход к образованию школьников (научить детей действовать успешно на основе полученных знаний и навыков);
- социальные гуманистические отношения (достоинство, уважение, сотрудничество и сотворчество).
Важной составляющей гуманизма К.А. Москаленко является патриотизм, любовь к Родине, своему Отечеству. В годы Великой Отечественной войны он был солдатом-добровольцем, а за проявленное мужество и героизм получил право участвовать в Параде Победы в Москве, на Красной площади в 1945 году. Его патриотизм великодушия проявлялся ко всем субъектам образовательного процесса (учителям, детям, родителям), так как Родина - это люди, ценой своей жизни он защищал их в трудные военные годы.
Информация для связи с автором: kantur.olga@mail.ru
Педагог-новатор К.А. Москаленко был учителем русского языка и поэтому мечтал о школе, русской по духу, этике, эстетике, культуре, досугу. Он писал: «Заела нас иностранщина. Безмерно жаль, что Россия разменивает свою психологию, свой шарм. Мораль - это мы, непохожие на других. А культура может быть только национальной... Одна из угроз, подступивших к нам вплотную, состоит в том, что каждое новое образование не хочет ни на что опираться. Это тоже свойство России» [4]. Эти слова являются доказательством истинного патриотизма педагога-новатора.
Гуманистическую направленность имеют и педагогические идеи, лежащие в основе педагогической системы, разработанной ученым в середине прошлого столетия. Сущность гуманистических идей заключается, как считал К.А. Москаленко, в простой истине: ребёнка необходимо защищать всегда и везде, ему необходимо помогать, побуждать, воодушевлять и вести его к успеху и росту.
К основным гуманистическим идеям К.А. Москаленко относятся:
Обучение школьников на основе развития их мышления, удовлетворения их интересов и потребностей.
Ориентация учащихся на успех в учебной деятельности, использование педагогического авансирования.
Уважение к личности учащегося, признание ученика субъектом, соавтором своего обучения.
Идеи К.А. Москаленко представляют собой целостную педагогическую систему гуманистического воспитания. Ценность педагогической системы состоит в том, что ее реализация позволила достигнуть высокого уровня результативности образовательного процесса не за счет перегрузки учащихся учебным материалом, а за счет внутренних резервов, создания атмосферы доброжелательности и сотрудничества, индивидуального и коллективного поиска, раскрытия творческого начала каждого ученика [5].
Реализация гуманистических идей К.А. Москаленко в школьной практике позволяет создать образ будущего выпускника, рассчитанный на долговременную перспективу, эти идеи отражают и практически воплощают необходимую форму воспитания с ее характерным набором идеалов и ценностей.
Большое значение имеют положения, выдвинутые Н.А. Белкановым, который сделал, на наш взгляд, чрезвычайно важный вывод о том, что «можно увидеть определенный параллелизм педагогической системы К.А. Москаленко и так называемой эмансипаторской педагогики, ориентированной на воспитание и образование свободно и критически мыслящей, автономной личности (Молленхауэр, Клафки). Однако у нашего земляка не было даже намека на радикализм, неприятие действительности. Школьники мыслили критически, свободно, поскольку чувствовали уважительное отношение к себе, и они научились уважать других, в том числе и признавать их право на ошибку» [6, с. 15].
Значение гуманизма К.А. Москаленко заключается и в том, что идеи, которые он разрабатывал в 60-е и 70-е годы XX века, представляются как проблемы, решение которых в любой перспективе будет важной составляющей развития теории и практики обучения и воспитания. В настоящее время особую актуальность имеет проблема формирования социальных отношений в коллективе и через коллектив, благоприятных для развития личности и общества. Остро стоят вопросы нравственного выбора и внутренней свободы, личной и социальной ответственности, формирования гражданской позиции и нравственных качеств человека, его деловой активности.
В педагогическом наследии ученого есть ответы на данные вопросы. Основываясь на теоретических положениях А.С. Макаренко о воспитании личности в коллективе, К.А. Москаленко разработал методы и приемы коллективного воздействия на учеников, изменившие взаимоотношения между учащимися в процессе учебной деятельности. Он отмечал: «Выполняя работу в едином школьном коллективе, ученик испытывает на себе сильное общественное мнение класса, могучую силу детского коллектива, могущества почти непревзойденного» [7, c. 65].
С позиции К.А. Москаленко, каждый учащийся, занимая в школе определенную социальную нишу в коллективе сверстников, выполняет задачи, возложенные на него этим коллективом. При этом ученик осознает значимость порученного дела и несет ответственность за качество его выполнения. Получившая одобрение ученых и учителей в 60-е годы XX века и сохранившая свою актуальность в настоящее время, разработанная ученым технология комментированного письма может служить примером коллективного воздействия на обучение и воспитание школьников. Данная технология помогает педагогам не только обучать детей грамотному письму, но и раскрывает объективные закономерности развития личности ребенка - постоянное стремление к общению с коллективом, возможность максимально проявить свои способности и удовлетворить духовные потребности в коллективе.
В процессе комментированного письма ребенок, наблюдая, воспринимая, переживая, оценивая то, что говорят и делают одноклассники в процессе комментированного письма, опираясь на имеющийся у него опыт работы, интерпретирует происходящее в соответствии с новой познавательной задачей и соответственно реагирует на нее. У учащегося возникает выраженная потребность «быть такими, как все», стремление не отличаться от других, чувствовать себя полноправным членом коллектива и ощущать признание этого факта одноклассниками. С другой стороны, решение чисто адаптационных задач на определенном этапе вступает в явное противоречие со свойственным каждому школьнику стремлением подчеркнуть свою индивидуальность, неповторимость. Происходит смена личностной задачи, возникает стремление доказать свою уникальность. Обращая внимание на учебную деятельность одноклассников, сравнивая их результаты обучения со своими результатами, учащийся стремится максимально проявить себя, развить свои способности.
Основную задачу педагога, учитывая культурноисторические традиции отечественной школы, ученый видел в формировании особой нравственной интеллектуальной среды в процессе обучения, стараясь максимально использовать ее воспитательные возможности. Педагог-новатор выступал против необоснованной требовательности учителей, которая перерастает в «допрос», недоверие к ученику, в оскорбление, переходящие нередко в конфликты между учителем и учеником. Он был убежден в том, что оценивая учебную деятельность учащихся, учитель не должен впадать в крайности: либерализм в выставлении баллов или травмирование учеников несправедливо заниженными отметками.
Гуманизм ученого заключается в его убеждении в том, что в процессе обучения и воспитания в личности учащихся необходимо проектировать положительные качества. Он был уверен в том, что ребенку необходимо помогать, его следует воодушевлять и побуждать, на каждом уроке учитель должен вести его к успеху и росту. Педагогическая система К.А. Москаленко ориентирована и на учителя, и на ученика, и на родителей. Основным мотивом деятельности субъектов педагогической системы К.А. Москаленко является ориентация на интересы и потребности ребенка, уважение к нему и безусловное принятие, личностное развитие, взаимодействие на пути к достижению общей цели. По убеждению ученого, при подготовке к уроку учитель «должен тщательно продумывать», что и как в течение 45 минут будут делать ученики под руководством учителя, чтобы «эта работа была разнообразной, самостоятельной, творческой, плодотворной, интересной, развивала бы активность, сообразительность, любознательность».
Заслуга К.А. Москаленко как педагога-новатора прежде всего в том, что он смог разработать и реализовать на практике гуманные технологии (поурочный балл, комментированное письмо, комплексное усвоение материала и др.), которые помогают создавать интеллектуальную атмосферу учебного процесса, то умственное возбуждение, которым заражают учащиеся друг друга в ходе творческой работы. В процессе обучения между учащимися, учителем и учениками происходит столкновение мнений, отстаивание собственной позиции, есть возможность советоваться с одноклассниками, взаимно оценивать свои усилия и качество работы, исправлять допущенные ошибки. В результате умственное возбуждение нескольких учеников вызывает «детонацию» всех учащихся. Коллективный труд способствует всестороннему развитию школьников, так как «вызывает особый подъем, прилив сил в деятельности личности... Чтобы привести в движение эти силы, необходимо придать всей деятельности учащихся коллективный и открытый характер, когда деятельность максимального числа учащихся предается гласности, т.е. многие учащиеся (половина класса) говорят, рассуждают, спорят, объясняют, комментируют, отвечают и т.д.» [7, с. 22]. Постоянное стремление ребенка к общению с коллективом, желание максимально проявить свои способности и удовлетворить духовные потребности позволяют учащимся обрести социальный опыт взаимодействия, реализовать свои способности, апробировать навыки эффективного поведения в определенной ситуации, воспитывать деловые качества.
Реализация педагогической системы К.А. Москаленко подразумевает внедрение гуманных методов и приемов в практику работы учителей, гуманистических идей в образовательный процесс, формирование гуманистических отношений в системе «ученик/учитель/учащиеся / родители ».
Бережно относясь к традициям известного в прошлом столетии в стране «Липецкого опыта» и развивая гуманистические идеи К.А. Москаленко, учителя и учащиеся лицея совместно успешно реализуют множество образовательных проектов. К наиболее эффективным из них относятся интегрированные проекты: «Мой выбор - медицина» и
«Химия в наши дни», которые «вышли на проектную мощность, реально работают, выполняют социальный заказ» [8, с. 21].
Данные проекты направлены на популяризацию интереса к химии, расширение кругозора об окружающем мире у учащихся 7-8 классов и ознакомление с медициной, изучение биологии и химии на профильном уровне, профессиональное самоопределение у учеников 9-11 классов.
В рамках реализации проекта «Химия в наши дни» учащиеся 7-8 классов:
- посещают (экскурсии) предприятия химической промышленности («Липецкая компания по производству лакокрасочной продукции» и др.);
- выполняют исследовательские, лабораторнопрактические работы, занимаются экспериментальной деятельностью под руководством научного руководителя;
- слушают публичные лекции, пишут под руководством научного руководителя содержательные публикации, участвуют в олимпиадах.
В рамках реализации проекта «Мой выбор - медицина» под руководством координатора проекта старшеклассники:
- посещают (экскурсии) больницу «Свободный Сокол» и другие медицинские учреждения города Липецка;
- отрабатывают в присутствии докторов навыки оказания неотложной помощи при остановке сердца и дыхания, при наличии инородного тела в дыхательных путях, закрепляют способы временной остановки кровотечений при травмах конечностей;
- осваивают различные формы профессионального обучения и самообразования (посещают лекции по биологии и химии, занятия в биологической лаборатории Рязанского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова, пишут под руководством научного руководителя содержательные публикации, участвуют в олимпиадах).
Результаты реализации проектов налицо. За четыре года 15 учащихся лицея №3 им. К.А. Москаленко стали студентами ведущих вузов страны: Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимовой, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Рязанского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова, Воронежской государственной медицинской академии им. Н.Н. Бурденко, Воронежского государственного университета (фундаментальная и прикладная химия), большое количество учащихся стали студентами Липецкого медицинского колледжа.
Работа с интегрированными проектами позволяет учащимся, с одной стороны, использовать результаты своей исследовательской и практической деятельности на уроках, с другой стороны, применять знания основ химии на практике в лечебных учреждениях, что повышает их интерес к изучению данного предмета, развивает учебную мотивацию, содействует ранней профилизации учеников основной школы и профессиональному самоопределению старшеклассников. Реализация интегрированных образовательных проектов «Химия в наши дни» и «Мой выбор - медицина» позволяет воспитывать у учащихся:
- интерес к изучаемым наукам;
- чуткое, внимательное отношение к людям, к их здоровью;
- положительное отношение к своему здоровью, к здоровому образу жизни;
- трудолюбие, ответственное отношение к результатам своей деятельности, к выбору профессии.
Инновационной составляющей реализации данных проектов является непосредственное участие лицеистов в научной деятельности: научное общество учащихся «НЕОН», научно-практические конференции в высших учебных заведениях города Липецка и за его пределами, освоение форм образования и самообразования в вузах города и страны.
Реализация и развитие гуманистических идей К.А. Москаленко:
- увлекательная учебная деятельность на уроках (урок-игра, урок-конференция, практическая или лабораторная работа и т.д.), научная организация деятельности учащихся;
- разнообразные внеклассные мероприятия (тематические классные часы, викторины, школьные олимпиады, встречи с учеными и представителями разных профессий и т.д.);
- внеурочная деятельность (научно-практические конференции членов научного общества «НЕОН» в лицее и за его пределами, экскурсии на предприятия, по городам нашей страны и зарубежным странам, разнообразные проекты и конкурсы, кружковая деятельность и т.д.).
Реализация гуманистических идей К.А. Москаленко в образовательном процессе позволила создать особый образ жизни коллектива, психологический климат и интеллектуальную нравственную атмосферу сотрудничества, сотворчества учащихся, учителей и родителей, которые целенаправленно содействуют духовно-нравственному воспитанию и развитию личности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Москаленко, К.А. Автобиография [Текст] / К.А. Москаленко. - ЛОКМ. - НВ 6773/7 - 2 л.
2. Кузовлев, В.П. Вступительное слово ректора ЕГУ им. Бунина, доктора педагогических наук, профессора, заслуженного работника высшей школы, председателя Комитета по науке, образованию, делам семьи, спорту, молодежи Липецкого областного Совета депутатов В.П. Кузовлева [Текст] / В.П. Кузовлев // Образование старшеклассников. Липецкий опыт: традиции и инновации : материалы II Региональной научно-практической конференции. - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2009. - 306 с.
3. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности : пер. с англ. [Текст] / сост. Л.И. Василенко, В.Е. Ермолаева. - М. : Прогресс, 1990. - 459 с.
4. Шмаков, С.А. Душу и сердце надо упражнять... О К.А. Москаленко [Текст] / С.А. Шмаков // Лип. газ. -1997. - 11 июня.
5. Кантур, О.Н. Гуманистические идеи в педагогической системе Константина Александровича Москаленко : дис. ... канд. пед. наук (13.00.01) [Текст] / О.Н. Кантур. - Липецк : ЛГПУ, 2014. - 169 с.
6. Белканов, Н.А. Липецкий опыт в контексте отечественного и мирового образования [Текст] / Н.А. Белка-нов. - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2009. - С. 15.
7. Москаленко, К.А. Психолого-педагогические основы повышения эффективности урока [Текст] / К.А. Москаленко. - Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1968. - 159 с.
8. Устинов, К. Путь к успеху, или как стать обладателем совы (о лицее №3 им. К.А. Москаленко) [Текст] / К. Устинов // Неоновый город - 2015. - № 8-9(124). - С. 20-21.
УДК 37.017.92
НЕКРАСОВА Наталия Ивановна,
старший преподаватель кафедры высшей математики и информатики,
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
АННОТАЦИЯ. Рассматривается опыт совместной образовательной деятельности религиозных и светских организаций Белгородской области, направленный на созидание единой культурно-образовательной среды Белгородчины, на сохранение и актуализацию исторического и культурного наследия региона, в том числе и религиозно-педагогического наследия подвижника благочестия XVIII века — святителя Иоа-сафа Белгородского.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образовательная деятельность, культурно-образовательная среда, религиознопедагогическое наследие, просветительские традиции отечественного образования.
NEKRASOVA N.I.,
Senior Lecturer of the Department of Higher Mathematics and Informatics,
Stary Oskol Technological Institute named after A.A. Ugarov
STATE-CONFESSIONAL DIALOGUE AS A REALIZATION OF SAINT JOASAPH BELGOROD’S HERITAGE
ABSTRACT. The article discusses the experience of collaborative educational activities of religious and secular organizations in Belgorod region aimed at creating a unified cultural and educational environment of the region, preserving and actualizing the regional historical and cultural heritage, including religious and pedagogical heritage of the ascetic of the eighteenth century piety — St. Joasaph of Belgorod.
KEY WORDS: educational activities, cultural and educational environment, religious and pedagogical heritage, educational traditions of national education.
В истории нашего отечества есть имена, олицетворяющие в сознании потомков не просто некую историческую личность, а воспринятую и утвердившуюся народную идею. Это светочи христианской веры и нравственности, жизнь, дела и поступки которых стали не столько историческим фактом, сколько практической заповедью грядущим поколениям. Поэтому потомки «целые века благоговейно твердят их дорогие имена не столько для того, чтобы благодарно почтить их память, сколько для того, чтобы самим не забыть правила, ими завещанного» [4, с. 1]. Таковы имена преподобного Сергия Радонежского, святого благоверного князя Александра Невского, преподобного Серафима Саровского, святителя Тихона Задонского и многих других.
Для Белгородской земли особое, вневременное значение имеет имя святителя Иоасафа Белгородского, жизненный путь которого являет не только образец личного подвига духовного самосовершенствования, но и убедительный пример плодотворной подвижнической деятельности, направленной на нравственное воспитание народа. Пастырское служение святителя вышло за рамки исключительно богослужебной деятельности и превратилось в разностороннюю социальную практику, ставшую значимым фактором преобразования духовного содержания среды возглавляемых им иноческих обителей и Белгородской епархии, а также действенным средством религиозно-нравственного формирования и личностного духовного развития окормляемого им духовенства и мирян. В итоге в пастырском служении подвижника в полной мере реализовались две взаимозависимые составляющие феномена образовательной деятельности: внутренняя образовательная деятельность, направленная на развитие личностных новообразований, определяющих ценностною мировоззренческую ориентацию человека, и внешняя образовательная деятельность - преобразование окружающей действительности (более подробно см.: Образовательная деятельность и историко-культурное наследие Отчего края : коллект. монография / под ред. Е.П. Белозерцева. - М. : АИРО-XXI, 2017. - 352 с.).
В наши дни указанные составляющие образовательной деятельности во многом утратили свое изначальное духовное, нравственное наполнение, отдалились от своих лучших образцов, зафиксированных в религиозно-педагогическом наследии святых подвижников и христианских любомудров, что породило реальную угрозу разрушения неповторимой системы исторических и духовных координат России как особой страны-цивилизации, угрозу размывания идентичности русских как державообразующего народа.
Современный процесс возрождения Святого Белогорья начался в непростое для страны время, в 1991 г., когда мощи святителя Иоасафа после многих лет забвения были торжественно возвращены из Преображенского собора Санкт-Петербурга в Преображенский кафедральный собор города Белгорода. Спустя четыре года после этого знаменательного события была возрождена Белгородская кафедра, а в июне 2012 года была образована Белгородская
Информация для связи с автором: nine2101@yandex.ru
митрополия, в состав которой вошли три епархии: Белгородская, Валуйская и Губкинская. На ежегодном съезде духовенства в январе 2016 г. митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн сообщил, что на 1 ноября 2015 г. в области родился 16 281 ребёнок, из них крещены - 15 051. Свои отношения узами брака скрепили 11 852 пары, при этом 12% пар закрепили союз обрядом венчания. В 2015 г. в области открылось 13 храмов, и теперь Белгородская и Старооскольская епархия насчитывает 25 благочиний, 387 храмов и около 50 часовен [1].
Одной из важнейших сфер деятельности митрополии является образовательная деятельность, направленная на формирование духовного содержания культурно-образовательной среды Белгородчины, на сохранение и актуализацию исторического и культурного наследия региона, в том числе и религиозно-педагогического наследия святителя Иоасафа Белгородского. Поэтому нравственное влияние подвижника XVIII в. не ограничилось только лишь временем его непосредственного пребывания во главе Белгородской архиерейской кафедры, а продолжает развиваться и в наши дни.
Созидание единой культурно-образовательной среды региона является ведущим направлением образовательной деятельности и для органов государственной власти Белгородской области. Единый вектор развития образовательной деятельности государственных и религиозных организаций обусловливает активное взаимодействие митрополии с Департаментом образования Белгородской области, Управлением культуры, Управлением социальной защиты населения и рядом других управлений Правительства области, а также с учреждениями образования, культуры, социальной защиты, здравоохранения и другими заинтересованными государственными учреждениями и общественными организациями области.
Нормативно-правовым основанием сотрудничества является сложившаяся к настоящему времени система двусторонних договоров и соглашений между Белгородской митрополией и региональными органами власти. Начиная с 2000 г., подобные соглашения были заключены с департаментом образования, с управлением социальной защиты населения, с управлением культуры, с управлением молодежной политики и др. Очередное пятилетнее соглашение о сотрудничестве в сфере образования, социальной и культурно-просветительской деятельности между Белгородской митрополией и правительством области было подписано в апреле 2013 г.
Значительно расширяют возможности для участия священнослужителей в решении проблем духовно-нравственного образования и воспитания соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, заключенные между Белгородской митрополией и образовательными учреждениями области: Белгородской государственной сельскохозяйственной академией (2006 г.), Старооскольским технологическим институтом им. А.А. Угарова (филиалом) Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» (2012 г.), Белгородским государственным технологическим университетом им. В.Г. Шухова (2012 г.), Белгородским юридическим институтом МВД России (2012 г.), Белгородским государственным национальным исследовательским университетом (2013 г.), Белгородским государственным институтом искусств и культуры (2013 г.).
Практика государственно-конфессионального диалога включает целый ряд направлений совместной деятельности. Одно из них - сотрудничество в сфере реализации областных целевых программ.
Белгородская митрополия принимала активное участие в реализации долгосрочной целевой программы «Духовно-нравственное воспитание населения Белгородской области», в число основных задач которой входило формирование единой культурнообразовательной среды региона, укрепление нравственных ценностей, сохранение и популяризация традиционной культуры Белгородской области, возрождение и сохранение исторических традиций белгородской семьи и ряд других. Результатом совместной деятельности стала реализация трех проектов духовно-нравственной направленности: «Система управления духовно-нравственным воспитанием в образовательной среде», «Детский областной духовно-просветительский центр "Благовест"» и «Святые источники Белгородской области». В настоящее время сотрудничество продолжено в рамках Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области до 2020 г. В Стратегии закреплен региональный приоритет развития образования - воспитательная работа, а также ее ведущее направление - духовно-нравственное воспитание: формирование базовых основ православной культуры, национальных ценностей, нравственности и регионального патриотизма.
Задача формирования христианского самосознания в наши дни приобрела особую остроту и значимость. Ведь самоопределение и самоидентификация человека немыслимы вне пространства культуры, вне ее смыслов и ценностей, а наиболее полное их осознание возможно только через обращение к религии как важнейшему социокультурному феномену, «представляющему и раскрывающему "генетические коды" российской и мировой культуры» [6, с. 18].
С 2012 г. в четвертых классах всех общеобразовательных учреждений Белгородской области преподается предмет «Основы православной культуры». Введению данного курса предшествовала многолетняя практика преподавания в школах области со 2 по 11 класс предмета «Православная культура» в качестве регионального компонента базисного учебного плана Белгородской области [3]. Программа курса была разработана на теологическом факультете Белгородского государственного университета. Здесь же была проведена работа по повышению квалификации преподавателей данного предмета, подготовлен учебно-методический комплекс для 5-11 классов «Православная культура» с материалами по краеведению Белгородской области и мультимедийными приложениями. Предмет имел культурологическую направленность и знакомил учащихся с православной христианской картиной мира на материалах краеведения Белгородской области.
До принятия закона о введении регионального компонента в виде курса «Православная культура» данная учебная дисциплина на протяжении восьми лет изучалась во всех школах области в форме факультативных занятий. Вопрос перехода предмета из факультативного в региональный компонент предварительно обсуждался родителями и педагогической общественностью региона и нашел широкую поддержку и одобрение, что наглядно отражает современную религиозную ситуацию в области, самым крупным религиозным объединением которой является Русская Православная Церковь.
Преподавание религиозной культуры в рамках светской системы образования - сложная задача, успешное решение которой во многом зависит от квалификации и психологической готовности педагогов к работе в новых условиях. Одним из направлений многоаспектного взаимодействия департамента образования Белгородской области и Белгородской митрополии является совместная деятельность по подготовке педагогических и руководящих кадров в области духовно-нравственного воспитания и преподавания религиоведческих дисциплин. В рамках указанного направления департаментом образования области совместно с представителями Белгородской метрополии была создана региональная общественная организация «Общество православных педагогов Белгородчины», основной целью которой является возрождение православных традиций национальной русской духовной культуры и содействие в профессиональном становлении православных педагогов.
Органичной частью процесса изучения истории и культуры православия в контексте истории и культуры Белгородской области стали паломнические поездки для учащихся и педагогов, организацией и проведением которых занимаются Белгородский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий и созданный в 2007 г. Паломнический центр Белгородской и Старооскольской епархии. Деятельность Паломнического центра тесно связана с решением миссионерских задач, направленных главным образом на духовно-просветительскую деятельность в школах, в средних и высших учебных заведениях. Понимая важность и необходимость духовного краеведения, сотрудники центра наряду с маршрутами на дальние расстояния к святыням России и ближнего зарубежья разработали ряд маршрутов, дающих возможность познакомиться с монастырями Белгородской митрополии.
Не менее важной составляющей процесса приобщения к истории России и отчего края, к традициям нашего государства и общества является совместная деятельность учебных заведений области и благочиний Белгородской митрополии по организации и проведению мероприятий, приуроченных к значимым церковно-государственным праздникам. Так, например, на праздник Сретения, ежегодно отмечаемый Русской Православной Церковью 15 февраля, проводится региональный музыкальный фестиваль православной молодёжи «Сретенские встречи», а на Пасхальную неделю - «Студенческая Пасха».
Большой воспитательный потенциал заложен также в проводимых в областном центре, в городах и сёлах Белгородчины праздниках-фестивалях, призванных возродить и популяризировать традиционную культуру Белгородской области, сохранить духовное наследие прошлого. Фестивальный календарь области отличается большим разнообразием культурных акций, среди которых Международный фестиваль «Славяне мы - в единстве наша сила», праздник-фестиваль славянской культуры «Зелёные святки», праздник «Всё начинается с любви», фестиваль-ярмарка «Яблочный Спас» и ряд других.
Партнерское сотрудничество департамента образования Белгородской области и Белгородской митрополии также широко используется и в такой форме работы, как организация различных конкурсов для обучающихся. Результатом совместных усилий в этом направлении стала сложившаяся система региональных творческих конкурсов среди детей и учащейся молодежи: «Знаток православной культуры», «Пасхальный фестиваль», фотоконкурс «Золотые купола», «Духовный лик России», Общероссийская олимпиада по основам православной культуры и другие.
Доброй традицией в Белгородской митрополии становится проведение миссионерского форума православной молодежи «Молодое дело». Главная задача, которую форум ставит перед своими участниками, - познание православного вероучения и дальнейшее распространение этих знаний среди сверстников. Решать эту непростую задачу молодым людям помогают их старшие наставники. К участию в форуме приглашаются миссионеры-практики, известные публицисты, проповедники Церкви, преподаватели духовных учебных заведений, специалисты Школы православного молодежного актива «Вера и дело», сотрудники управления по делам молодежи Белгородской области, представители Синодального отдела по работе с молодежью, писатели, историки, политологи.
Одной из новых форм организации работы с населением, прежде всего с детьми и молодежью, являются духовно-просветительские центры, сфера деятельности которых - духовное просвещение, нравственное образование и воспитание населения на базе православных ценностей. В настоящее время подобных центров в области насчитывается более 90. При этом часть из них функционирует как самостоятельные организации, часть - как филиалы, созданные при храмах, Домах культуры, библиотеках. Активное участие в работе центров принимают священнослужители церковных благочиний Белгородской митрополии.
Один из таких центров - детский областной духовно-просветительский центр «Благовест» - был упомянут выше. В качестве еще одного примера можно привести деятельность открытого в сентябре 2001 г. в городе Грайворон Духовно-просветительского центра во имя святителя Иоасафа Белгородского. Примечательно, что Центр был построен в городе, где 10 декабря 1754 г. скончался великий подвижник, что подчеркивает преемственность просветительских традиций прошлого, заложенных самим святителем Иоасафом. Ведущим отделением Центра является воскресная школа, содержание учебного процесса которой ориентировано на активную деятельную жизнь учащихся в церковном сообществе, на приобщение детей к богопознанию и к осознанному исповеданию веры.
Создание и развитие образовательных учреждений, целенаправленно ведущих учебно-воспитательную деятельность на основе традиционных духовно-нравственных ценностей православия, является еще одним значимым направление сотрудничества Белгородской митрополии и Департамента образования Белгородской области. В 1995 г. была открыта Белгородская Православная гимназия во имя святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, а в 1998 г. - Старооскольская Православная гимназия во имя святого благоверного князя Александра Невского. Помимо школ, создаются и дошкольные учреждения такого рода направленности. В Белгородской области в настоящее время работает пять православных дошкольных учреждений. Деятельность в этом направлении в нашей области была особо отмечена Патриархом Московским и всея Руси Кириллом [2].
В сентябре 1996 г. состоялось торжественное открытие Белгородской Православной Духовной семинарии (с миссионерской направленностью), осуществляющей подготовку священнослужителей, богословов, преподавателей духовных учебных заведений, специалистов в области преподавания Православной культуры/Закона Божия в нерелигиозных учебных заведениях, православных миссионеров и полковых священников (капелланов). Воспитанники 5-го курса семинарии проходят обязательную педагогическую практику в школах и гимназиях города Белгорода, в Лицее милиции, в Белгородском медицинском колледже, в Белгородском государственном институте искусств и культуры, в воинской части. Подобное сочетание теории с практикой служения в современном обществе обеспечивает необходимую связь между учебной и пастырской сторонами образования.
В июне 2001 г. был создан социально-теологический факультет Белгородского государственного университета, образовательная деятельность которого также реализуется в партнерстве с Белгородской митрополией и Департаментом образования Белгородской области. На базе факультета успешно функционируют Духовно-просветительский центр имени митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова), религиозно-философский клуб «Логос», общественная организация «Клуб молодой семьи».
С марта 2007 в Белгороде при Преображенском кафедральном соборе действует Образовательнометодический центр «Преображение», основными задачами которого являются сбор и обработка информации духовно-образовательного и просветительского содержания, организация и развитие издательской деятельности, проведение духовнопросветительских семинаров, творческих конкурсов и выставок. При Центре действует воскресная школа, курсы сестёр милосердия, библиотека, епархиальный паломнический центр, а также методический кабинет, занимающийся разработкой программ и методических пособий по предмету «Основы православной культуры».
Практическую помощь родителям в христианском воспитании детей оказывают открытые во многих приходах Белгородской митрополии воскресные школы, дающие своим воспитанникам реальную возможность нарабатывать свой личный духовный опыт жизни в современном обществе в согласии с ценностными основаниями православной веры.
Не оставила без внимания Белгородская митрополия и проблему наполненного, содержательного проведения школьных каникул, организовав православный детский лагерь «Пчелка», программа отдыха которого традиционно включает разнообразные спортивные и познавательные соревнования, походы по историческим местам и паломнические поездки к православным святыням.
Одной из значимых целей совместной образовательной деятельности государственных и религиозных организаций является формирование осознанной потребности в непрерывном самообразовании и самовоспитании. В День православной книги в школах области проходят уроки-праздники, на которых дети под руководством учителей и священников православных храмов знакомятся с историей книгопечатания и с современными православными книгами. Традиционными стали приуроченные ко Дню православной книги встречи молодежи с белгородскими православными писателями и поэтами, с православными краеведами и сотрудниками Издательского отдела Белгородской и Старооскольской епархии. Кроме того, в рамках данного направления при многих храмах митрополии были открыты приходские библиотеки духовной литературы.
Наиболее эффективным каналом трансляции и распространения православного слова в наши дни являются современные масс-медиа, поэтому значимое место в светско-религиозном сотрудничестве занимает партнерство в формировании информационной среды региона. В митрополии ведется активная издательская деятельность. В печать регулярно выходят газеты: «Белгородские епархиальные ведомости», «Православное Осколье», «Преображение» и ряд других. Развивается молодежная православная журналистика, представленная изданиями духовных учебных заведений и православных организаций (журналы «Новый Ковчег», «Добродетель», газеты «Семинарский вестник», «Свет Христов»). Материалы на православные темы печатаются также в областных общественно-политических газетах: «Белгородские известия», «Белгородская правда», «Смена», «Наш Белгород».
Большое значение имеет выпуск православных программ и передач на телевидении и радио. В эфире первого областного телеканала «Мир Белогорья» выходит просветительский проект «Святыни Белгородчины» и цикл передач «Путь, Истина и Жизнь». Кроме того, сюжеты на православные темы выходят в ежедневной программе телеканала -«Новости». Тележурнал о самых ярких событиях духовной и общественной жизни региона «Церковь и мир» выходит на ГТРК «Белгород».
На Белгородском городском радио «Спектр» выходят в эфир передачи цикла «Святое Белогорье» -«Православный календарь» и «Ответы на вопросы». В центрах благочиннических округов митрополии в радиоэфире можно услышать выступления благочинных и духовно-просветительские беседы.
Не оставлена без внимания и самая востребованная среди молодежи среда распространения информации - глобальная сеть Интернет. В настоящее время в Рунете функционируют официальные информационные порталы Белгородской митрополии (belmitropol.ru), Белгородской и Старооскольской епархии (www.beleparh.ru), а также информационные ресурсы благочиний, соборов и храмов митрополии.
Следуя примеру покровителя земли Белгородской, митрополия в своей образовательной деятельности особое внимание уделяет работе с детьми-сиротами и с детьми, оставшимися без попечения родителей. Совместными усилиями митрополии и департамента образования Белгородской области были открыты Прохоровский Православный детский дом-школа во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла и Социальный приют для детей и подростков во имя святой блаженной Ксении Петербуржской при Христорождественском храме села Горки Красненского района Белгородской области. Уникальность данного приюта в том, что он находится при храме и дети имеют возможность не только получать школьное образование, но и, участвуя в жизни Церкви, в ее таинствах, получают православное воспитание. Здесь же был создан Территориальный центр социального обслуживания инвалидов и престарелых во имя святой блаженной Ксении Петербургской. Таким образом, в один комплекс были объединены храм, дом престарелых и приют для сирот, что стало первым подобным опытом во всём Центральном Черноземье.
Большой вклад в дело осмысления религиознопедагогического наследия святителя Иоасафа, его актуализацию и дальнейшее развитие в теории и практике современной образовательной деятельности вносит ежегодная международная научнобогословская конференция «Иоасафовские чтения». В работе этого представительного форума принимают участие руководители органов государственной власти и местного самоуправления, деятели науки, образования и культуры, члены общественных организаций, педагоги, студенты, журналисты СМИ, священнослужители Русской Православной Церкви. Консолидация столь широкого круга участников чтений позволяет в полной мере использовать значительный потенциал учёных, деятелей образования и культуры, представителей общественности и духовенства Белгородской митрополии, заинтересованных в духовном оздоровлении общества на базе традиционных православных ценностей.
Представленный обзор основных направлений совместной образовательной деятельности религиозных и светских организаций Белгородской области, возможно, не воссоздает предельно полную картину этого многогранного взаимодействия, но вектор его развития, на наш взгляд, представлен вполне определенно - это дальнейшее преобразование культурно-образовательной среды Белгородчины, сохранение и актуализация исторического и культурного наследия региона, в том числе и богатейшего духовного наследия святителя Иоасафа Белгородского, что особенно важно в современных условиях агрессивного развития и распространения русофобских настроений. Таким образом, конструктивный государственно-конфессиональный диалог сегодня становится значимым фактором в деле сохранения и активного противостояния разрушению или отрицанию тех базовых ценностей, без которых не было бы ни Российской православной державы, ни великой Российской империи, без которых немыслимо дальнейшее существование и развитие современной России.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Булгакова, О. В Белгороде откроется ещё один православный детский сад [Электронный ресурс] / О. Булгакова. - (http://www.go31.ru/news/1080713).
2. Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на открытии XXI Международных Рождественских чтений [Электронный ресурс] // Официальный сайт Московского Патриархата. -
(http://www.patriarchia.ru/db/text/2746897.html).
3. Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года № 57 «Об установлении регионального компонента государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской области» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «ЗаконПрост». - (http://www.zakonprost.ru/content/regional/ 6/1251761).
4. Ключевский, В.О. Значение преп. Сергия Радонежского для русского народа и государства [Текст] / В.О. Ключевский // Богословский вестник. - 1892. - №11. - С. 1-15.
5. Образовательная деятельность и историко-культурное наследие Отчего края : коллект. монография [Текст] / под ред. Е.П. Белозерцева. - М. : АИРО-XXI, 2017. - 352 с.
6. Петракова, Т.И. Совместная деятельность органов управления образованием и религиозных организаций по духовно-нравственному образованию и воспитанию, изучению истории и культуры религий. Из опыта работы регионов России [Текст] / Т.И. Петракова // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Сер. 4. Педагогика. Психология. - 2008. - №11. - С. 17-82.
УДК 374.32
НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ (1920-1930 годы)_
аспирант кафедры теории, истории музыки и музыкальных инструментов,
Воронежский государственный педагогический университет
АННОТАЦИЯ. Анализируются основные педагогические идеи и методы национального воспитания, представленные в детских и молодежных организациях русской эмиграции 1920-30-х годов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: русская эмиграция, национальное воспитание, детское и молодежное движение.
Postgraduate Student of the Department of Teory, History of Music and Musical Instruments,
Voronezh State Pedagogical University
ABSTRACT. The article examines basic pedagogical ideas and methods of national education represented in children s and youth organizations of Russian emigration in the 1920s-30s.
KEY WORDS: Russian emigration, national education,
Педагогическое наследие русского зарубежья представляет собой важнейшую часть педагогического наследия России ХХ века, воплощенного в реальной практике и имеющего успешный опыт российского национального воспитания в инокультурных условиях.
Русское зарубежье в ХХ веке - это географический и социокультурный феномен, уникальное культурно-образовательное пространство.
Русские эмигранты, волей исторической судьбы оторванные от России, стремились привить подрастающему поколению такое отношение к Родине, которое требует беззаветного служения ей даже в изгнании. Именно так им представлялась главная миссия российской эмиграции, которая считала себя полноправным членом российской культуры и искренне верила, что «воды этого отдельного, текущего за рубежом России потока, пожалуй, больше будут содействовать обогащению этого общего русла, чем воды внутренние» [1, с. 8].
Воспитанию в молодом поколении изгнанников деятельной любви к Родине всемерно способствовала созданная в эмиграции система национального образования, важнейшую роль в которой сыграли детские и молодежные спортивно-патриотические организации, такие как «Национальная организация юных скаутов», общество «Русский Сокол», «Национальная организация юных разведчиков», «Национальная организация юных витязей» и др.
Впервые скаутские организации появились в России в 1909 г., и уже в течение первых пяти лет происходит их популяризация и широкое распространение. В Уставе скаутов это детско-молодежное движение определялось как «добровольное неполитическое движение в целях воспитания молодых людей, открытое для всех вне зависимости от их происхождения, расы, вероисповедания в соответствии с целью, принципами и методом, заложенными его Основателем» [2, с. 117].
Информация для связи с автором: sedova00@inbox.ru children’s and youth movement.
К 1918 г. в России в движение скаутов вступает около 50 тыс. человек, издается газета «Русский скаут». Главной целью скаутизма в дореволюционной России являлось воспитание активного гражданина, а также желание «внести вклад в развитие молодых людей, в раскрытие в полной мере их физического, интеллектуального, социального и духовного потенциала как индивидуумов, ответственных граждан и членов своих местных, национальных и интернациональных сообществ» [3, с. 7].
Изначально спортивно-патриотическая организация «Сокол» зародилась в Чехии в 1863 году, а затем появилась и в других славянских областях внутри Австро-Венгрии. Создание этой организации, по сути, явилось актом самоорганизации чехов, словенцев, сербов и других перед угрозой потери самобытности и онемечивания этих народов. В основе сокольской системы лежала система нравственного и физического воспитания. Основателем сокольского движения был чех Мирослав Тырш. Именно он, тщательно исследовав различные гимнастические системы, на их основе создает свою собственную.
В работе «Основы гимнастики» Мирослав Тырш в 1868 году отмечает «огромное значение систематического телесного развития и его влияния на воспитание духовных качеств человека: выдержки, храбрости, настойчивости, понимания красоты, честности в борьбе, точности и привычки к систематическому труду» [4].
Основой сокольской гимнастики стали упражнения, связанные с использованием различных гимнастических снарядов и всевозможных предметов, в том числе и старинные виды оружия (мечи, щиты, булавы). Наиболее подробно были проработаны упражнения на гимнастических снарядах - на перекладине, на коне, на брусьях, а также разнообразные упражнения под музыку, акробатические упражнения, пирамиды. Значительным достижением сокольской системы стало то, что качество и красота исполнения упражнений становится важнее количества их повторений.
Сокольские занятия строились по строгой схеме: строевые упражнения, затем вольные и упражнения со снарядами, далее упражнения на снарядах, общие упражнения (например, акробатические пирамиды и перестроения) и в завершении - вновь строевые. Постепенно отдельные гимнастические упражнения стали соединяться в комбинации, выполняться под музыкальное сопровождение, были введены гимнастическая обувь и специальные красивые костюмы.
Сокольская гимнастика имела своей целью постоянную и целенаправленную тренировку тела и рассматривалась ее создателем как «средство физического и нравственного воспитания чешского народа, способствующего укреплению физических и нравственных сил» [5].
После октябрьского переворота многие члены сокольских обществ стали участниками Белого движения. После 1918 года сокольская гимнастика была объявлена в большевистской России контрреволюционной, но большая часть сокольских упражнений и приемов вошла в систему отечественной спортивной гимнастики. В 1922 г. все сокольские организации в России были запрещены, а члены этих организаций подвергались преследованию.
За границей белая эмиграция, особенно в славянских странах, воссоздает движение Русских Соколов во взаимодействии с местными сокольскими организациями. Постепенно распространяясь, общество «Русский Сокол» становится одной из важнейших общественных организаций, которая смогла объединить самые разные слои русского общества в эмиграции [6].
В 20-е годы ХХ столетия начинается новый этап развития российского детского и молодежного движения. Первые детско-молодежные организации появились в Финляндии, Эстонии, Польше и Латвии, т.е. в тех странах, которые отделились от распавшейся Российской империи. Кроме того, детское движение получает развитие там, где появляются крупные лагеря русских эмигрантов, прежде всего в Турции, Манчжурии, Германии.
Перед педагогической общественностью русского зарубежья встали новые образовательно-воспитательные проблемы, не существовавшие в дореволюционной России. Среди таких проблем наиболее существенными являются:
- глубокий психологический стресс, вызванный пережитыми детьми потрясениями в период революций, гражданской войны и во время скитаний;
- денационализационные процессы, т.е. утрата молодым поколением русского языка и традиций российской культуры;
- организация русского образования детей в инокультурной среде.
Указанные проблемы остро поставили вопрос пересмотра учебно-воспитательной и методической базы русских учебных заведений, воссоздание в эмиграции таких образовательных структур, как кадетские корпуса, девичьи институты, интернаты, а также разнообразные детские и юношеские общественные организации [7].
Педагогическая теория и практика русского зарубежья в центр обсуждения ставила вопросы национального воспитания подрастающего поколения, национального самосохранения детей и молодежи. Российские изгнанники хотели «удержать живую связь с духовной и культурной традицией русского прошлого, из которой вырастает и свободное творчество будущего, и помочь как-то русскому народу, находящемуся там, в его усилиях эту жизненную связь сохранить и оживить» [8]. Русское зарубежье осознавало себя полноправным участником российской культуры и надеялось на то, что «воды этого отдельного, текущего за рубежом России потока, пожалуй, больше будут содействовать обогащению этого общего русла, чем воды внутренние» [9].
Необходимость воссоздания в русском зарубежье системы национального образования была вызвана усиливающимся к 1930-м годам процессом денационализации, который мог, по мнению педагогической общественности, негативно повлиять на сознание юного поколения. Денационализации понималась в русском зарубежье как «угроза утраты подрастающим поколением личностных установок на сохранение национальной идентичности, языка, культуры и принятие ими под давлением условий социальной среды социокультурных ценностей страны проживания» [10, с. 83].
В эмиграции активизируется русское общественно-педагогическое движение, результатом которого являются регулярно проводимые общеэмигрантские педагогические съезды, а также создание различных русских педагогических организаций. С начала 1920-х годов регулярно проводятся русские педагогические съезды, посвященные актуальным проблемам национального воспитания детей и подростков в эмиграции. Например, в 1929 году в Праге проходил Съезд по вопросам воспитания русской молодежи, на котором активно обсуждался доклад Н.А. Чернышева на тему национального воспитания в России. По результатам обсуждения были приняты следующие решения:
«1. Признавая чрезвычайную ценность и совершенную необходимость русского национального воспитания, призываем семью и школу развивать и укреплять связь детей с родиной, выдвигая как основу национального воспитания приобщение их к русской культуре, творчески объединившей в России ее многоплеменной состав.
2. Съезд находит, что молодое поколение должно воспитываться в сознании своей принадлежности к великой стране, перед которой открыты великие возможности и великое будущее. В молодом поколении должна быть воспитана смелая и бодрая уверенность в грядущем ее развитии.
3. Для этого необходимо не только изучение исторического прошлого России, но и приближение к родной стране путем ознакомления с ее настоящим положением.
4. Этим путем молодое поколение проникнется сознанием своих обязанностей перед Родиной и ответственности за ее судьбы» [11].
Мыслители и выдающиеся педагоги русского зарубежья - прот. С. Четвериков, С. Гессен, В. Плетнев, В. Зеньковский, М. Агапов-Таганский и др. -возглавляли детские и юношеские национальные организации. Авторы программных, теоретических и методических работ - М.В. Агапов-Таганский, П.Н. Богданович, В.В. Зеньковский, Б.Б. Мартино, О.И. Пантюхов, Н.Ф. Федоров - продолжали развивать основные идеи детско-молодежного движения дореволюционной России, адаптировав их к новым условиям. Анализ взглядов руководителей детскоюношеских организаций показал, что основами развития и успешной деятельности таких объединений в русском зарубежье являются:
- уважение автономии человеческой личности и всестороннего развития ребенка (правильное соотношение физического, трудового, творческого и духовного направлений воспитания);
- поддержка и защита ребенка как части русской диаспоры, воспитание в нем положительных психологических качеств личности;
- обязательное воспитание национального самосознания, привитие чувства любви к далекой родине, ее языку, религии и культуре;
- создание представления о значении всего русского в жизни мировой цивилизации, внушение надежды на социально-политические изменения в России и на возвращение в нее;
- развитие личной духовной жизни детей во взаимосвязи с благими делами в повседневной жизни русской диаспоры и общине страны проживания;
- приобщение ребенка к христианским ценностям, воспитание его в духе православной антропологии; сотрудничество с православной церковью в ее духовно-нравственном и интеллектуальном воздействии на все стороны социальной жизни, в том числе в области внешкольного воспитания [7].
К началу 30-х годов в русском зарубежье сформировались основные структуры российского детскоюношеского движения - организация «Русских скаутов», общество «Русский Сокол», различные детские отделения Российского студенческого христианского движения и др. Центрами русского национального детско-юношеского движения в эмиграции становятся Болгария, Китай, Чехословакия, Финляндия, Франция, Югославия и страны Прибалтики.
Один из центров русского сокольского движения в то время - Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев (Югославия). Его король - Александр I Ка-рагеоргиевич, оказавший большую помощь русским изгнанникам, являлся почётным старостой всего южнославянского «Сокола».
С конца 20-х годов русские сокольские организации активно развиваются во Франции, Швейцарии, Болгарии, Латвии, Польше, Китае, США. Цель русского сокольства в эмиграции состояла в распространении его как формы объединения русских людей, в поднятии уровня физического здоровья, нравственного и духовного развития и совершенствования, в формировании национального самосознания [1].
Большое внимание уделялось воспитанию подрастающего поколения в русском национальном духе. Одной их самых эффективных форм национального воспитания в детских и молодежных организациях русской эмиграции были летние лагеря.
Педагоги и общественные деятели русского зарубежья именно такую форму работы считали наиболее эффективной для национальной социализации русских детей и юношества, так как общение в лагере осуществлялось на родном языке. При рассмотрении программ различных лагерных смен становится понятно, что главными составляющими являлись воспитание (религиозное, физическое, нравственное) и просвещение [12].
Важным компонентом лагерной работы были беседы у костра, где обсуждались проблемы России, ее история и культура. Не менее значительным средством национального воспитания было также соблюдение религиозных обрядов. Так, в каждом лагере обязательно присутствовал православный священник, который объяснял детям Священное писание и Новый Завет, разучивал молитвы и церковные песнопения. В лагере ставилась церковная палатка, в которой ежедневно проходили богослужения.
Обязательной частью лагерной смены были походы и экскурсии, во время которых дети не только развивались физически, но знакомились с историей, географией, культурой России и страны, в которой они жили в данный момент.
Кроме того, ребята занимались художественнотворческой самодеятельностью - исполняли русские песни и танцы, ставили небольшие спектакли, читали русскую классическую литературу.
Лагеря охватывали значительное количество детей и подростков, не все из которых могли посещать русские учебные заведения в течение года. Например, во Франции в эмигрантских школах обучалось несколько сот учеников, тогда как в лагерях бывали тысячи русских детей. Таким образом, летние детские лагеря были одной из наиболее эффективных форм национального воспитания, которое проводилось в различных детских, юношеских и молодежных объединениях в целях сохранения национальной и культурной идентичности детей русских эмигрантов.
Опыт детских и молодежных организаций русского зарубежья оказался востребованным и актуальным в современной России, стремящейся объединить в деятельности детских и юношеских организаций лучшие традиции как дореволюционной, так и эмигрантской педагогики с учетом современных реалий.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Вадков, А. Русский сокол и его задачи за границей [Текст] / А. Вадков. - Загреб, 1926. - С. 7.
2. Щупленков, О.В. Молодежные организации в эмиграции «первой волны» [Текст] / О.В. Щупленков // Молодой ученый. - 2010. - №5. - Т. 2. - С. 117-120.
3. Семенов, Д.Д. Избранные педагогические сочинения [Текст] / Д.Д. Семенов. - М., 1953. - С. 7-16.
4. Основы Русского Сокольства [Текст]. - Белград : Изд. Просветительного Комитета Краевого Союза Русского Сокольства в Югославии, 1935.
5. Качулина, Н.Н. Сокольская гимнастика [Текст] / Н.Н. Качулина // Юбилейный сборник трудов ученых РГАФК, посвященный 80-летию академии. - М., 1997. - Т. 1. - С. 15-18.
6. Седова, Е.Е. Патриотическое воспитание в молодежно-спортивных организациях российской эмиграции [Текст] / Е.Е. Седова // Культура физическая и здоровье. - 2008. - №3(17). - С. 24-29.
7. Ковшов, Р.В. Формирование и развитие детского движения русского зарубежья - преемника русского дореволюционного детского движения [Текст] / Р.В. Ковшов // Нансеновские чтения-2014: русская школа за рубежом. Прошлое и настоящее. - СПб. : Северная звезда, 2016. - C. 48-59.
8. Арсеньев, Н.С. Эмиграция на фоне России [Текст] / Н.С. Арсеньев // Возрождение. - Париж, 1967. -№191. - С. 83.
9. Струве, Г.П. Опыт исторического обзора зарубежной литературы. Русская литература в изгнании [Текст]. / Г.П. Струве. - Париж : ИМКА-ПРЕСС, 1984. - С. 7-8.
10. Седова, Е.Е. Педагогическая теория и образовательная практика Российского Зарубежья первой половины ХХ века [Текст] / Е.Е. Седова // Педагогика. - 2008. - №1. - С. 83-91.
11. ГАРФ, ф. 5785, оп. 2, д. 21 Л. 142.
12. Лагерь [Текст] // Вестник Русского студенческого христианского движения. - Париж, 1928. - № 7. - С. 29.
УДК 37.017.93
РЕЛИГИОЗНОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ ДЕТЕЙ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ В 1920-1930-е ГОДЫ
доцент, начальник кафедры конструкции и эксплуатации авиационной техники,
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
(филиал, г. Краснодар)
АННОТАЦИЯ. Рассматриваются философско-педагогические основы и практика религиозного воспитания детей и юношества в эмиграции в 1920-1930-е годы как средство сохранения национально идентичности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: религиозное воспитание, русская эмиграция, национальное образование. CHERNOPYATOV A.V.,
Docent, Head of the Department of Design and Maintenance of Aviation Equipment,
Russian Air Force Military Educational and Scientific Center “Air Force Academy named after Professor N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin” (Krasnodar branch)
ABSTRACT. The article discusses philosophical and pedagogical foundations and the practice of religious education of children and youth in emigration in 1920-1930s as a means of national identity preserving.
KEY WORDS: religious education, Russian emigration, national education.
Религиозное воспитание в России всегда было важнейшим направлением духовно-нравственного становления детей и юношества. В 1920-30-е годы религиозное воспитание приобретает особое значение в среде русской эмиграции, так как именно в отрыве от родины национальные традиции и обряды, русские православные ценности становятся мощным средством национального самосохранения, противостояния негативным процессам денационализации русских детей и юношества в инокультурной среде. Православная религия стала для изгнанников «нитью, связывающей их с покинутой родиной». Представители русской интеллигенции, оказавшиеся в эмиграции, в новых сложных условиях пришли к неожиданному выводу, а именно: «...безбожие есть дело глупейшее и вреднейшее из всех, затевавшихся человечеством» [1, с. 97], при этом православные храмы становятся центрами духовного объединения, способствуют сохранению национальных традиций, языка и в целом российской ментальности.
Религиозное воспитание, став фактором национальной идентификации в инокультурной среде, вызвало необходимость подготовки православных педагогов. Как писал В.В. Зеньковский, в новых условиях нужно было, прежде всего, обогреть, накормить и обучить детей, но при этом не менее важно проявить заботу «о душе детской, о ее выпрямлении и оздоровлении, о ее освобождении от тяжелого груза всего пережитого» [2, с. 159], так как детям-изгнанникам важно и «религиозное питание» [2, с. 160].
Подготовка православных священников и педагогов для русских учебных заведений в эмиграции осуществлялась открытым в 1925 году в Париже Православным богословским институтом при Свято-Сергиевском подворье. В 1927 году при Богословском Институте был учреждён РелигиозноПедагогический Кабинет, главной задачей которого стала разработка проблем религиозного воспитания и образования. Деятельность Кабинета связана, прежде всего, с именем В.В. Зеньковского, религиозного педагога и философа, в наследии которого «выстраивается целостное понимание целей, форм, задач национального воспитания и образования на основе православия, идея которого является интегративной, глубоко пронизывающей все его творчество. Главную цель национального воспитания он видел в посвящении всех сил служению Родине и в подготовке к этому служению. Универсальной ценностью русской школы Зеньковский считает православие, потому что только оно обеспечивает подлинную свободу личности, делает возможной насыщенную духовную жизнь, непрекращающееся нравственное становление» [3, с. 84].
Религиозно-Педагогический Кабинет в разное время состоял из таких участников, как С.И. Четвериков, И. Лаговский, А.Ф. Шумкина, С.С. Шид-ловская, В. Руднев, Н. Фёдоров и др. Это было объединение людей, стремящееся к созданию современной педагогической системы в православной
Информация для связи с автором: sedova00@inbox.ru
традиции: «В детях наше будущее, - отмечали педагоги, - и если мы хотим видеть будущее поколение, идущее нам на смену, религиозным, преданным родине и умеющим работать, мы должны приложить все усилия, чтобы сделать их таковыми» [4, с. 22].
Выдающийся русский философ Иван Александрович Ильин в числе главных средств национального воспитания называет жития героев и святых. Именно они, по мнению И. Ильина, «пленяют воображение ребенка примерами национальной святости и национальной доблести. Русскость святого пробуждает в ребёнке чувство соучастия в святых делах, а русскость героя дает веру в силу своего народа, все это, вместе взятое, есть настоящая школа русского национального характера» [5, с. 239]. Кроме того, к национальным средствам воспитания философ относит молитву - «сосредоточенную и страстную обращенность к Богу, которая дает ребенку духовную гармонию» [5, с. 240]. Ильин утверждает, что ребенок не обязательно должен стать православным верующим и воцерковленным, но национальное религиозное воспитание должно помочь ему не стать врагом православия: «Неправославный может быть верным русским патриотом и доблестным русским гражданином; но человек, враждебный православию, - не найдет доступа к священным тайникам русского духа и русского миропонимания, он останется чужеродным в стране, своего рода внутренним неприятелем» [там же, с. 238].
Религиозно-педагогический кабинет выпускал журнал «Вопросы религиозного воспитания и образования», который ставил своей целью разработку основных проблем религиозного воспитания, а также методики и дидактики религиозной педагогики.
Центральный педагогический орган русского зарубежья - «Педагогическое бюро по делам низшей и средней школы за рубежом» (Прага) - также целенаправленно занимался разработкой проблем религиозного воспитания детей и юношества русской эмиграции. Педагоги русского зарубежья отмечали: «Возникла необходимость считаться и с тем обстоятельством, что чрезвычайно разнообразные и сложные, всегда трагические, а иногда и кошмарные впечатления революции и беженства почти до неузнаваемости изменили духовный облик учащихся. Будучи элементарны умом в смысле начитанности и знаний, они теперь, после пережитых впечатлений, далеко не элементарны душой. Беженское существование внесло расстройство и в жизнь эмигрантской семьи. Родители часто не имеют возможности сами содержать и воспитывать своих детей. Вынужденные добывать средства к жизни тяжелым, целодневным трудом и возвращаясь только вечером в свою квартиру, они оставляют детей в течение всего дня без присмотра, нередко в крайне неблагоприятной обстановке, среди чужих и чуждых людей, где дети, подчиняясь влиянию окружающей среды, утрачивают сознание своей русскости, забывают русскою речь, отвыкают от русского богослужения, забывают и русскую Пасху и русское Рождество. Душа русского ребенка часто не знает необходимого домашнего уюта и благотворного влияния нормальной семейно-религиозной обстановки. Это обстоятельство налагает обязанность на существующие детские сады, ясли, приюты, колонии и начальные школы позаботиться о том, чтобы до известной степени устранить и преодолеть это зло в жизни русских детей. В противовес денационализирующему влиянию окружающей обстановки, они должны сохранить в русских детях и русское самосознание и православную веру» [6].
Работу в этом направлении возглавил прот. о. С. Четвериков, который в 1924 г. подготовил подробный доклад о целях и методах религиозного воспитания как фактора национального сохранения подрастающего поколения [7, с. 321]. В докладе было выделено несколько важнейших направлений, на которых следует основывать религиозное воспитание русских детей:
- всемерное усиление связи русских школ с семьей и обществом;
- усиление роли храма и молитвы в национальном воспитании;
- переосмысление Закона Божьего как учебного и воспитательного предмета. К преподаванию Закона Божьего, по мнению о. С. Четверикова, следовало предъявлять не менее серьезные требования, чем к другим школьным предметам.
Особо отмечалась роль законоучителя в школе, который должен, прежде всего, вникать в духовные интересы и духовные нужды каждого ребенка, обращать внимание на нравственную атмосферу в классе и в школе.
Специально созданная комиссия при Педагогическом бюро на основе доклада приняла основные положения религиозного воспитания детей дошкольного и школьного возраста:
1. «Русская средняя школа, неразрывно связанная с русским обществом и русскою семьею, должна поддерживать то дело религиозного воспитания и образования, которому полагается начало в христианской семье и которое составляет необходимую основу разумного и светлого общего образования» [6].
2. «Средоточием религиозной жизни школы должен быть храм (постоянный или временный), и школа должна заботиться о привитии детям привычки и любви к посещению храма» [6].
3. «Продолжительность школьного богослужения должна быть приспособлена к возрасту и силам учащихся, с сохранением общего плана церковных служб и по однообразному указанию высшей церковной власти».
4. В тех средних школах, где имеются интернаты, утренние и вечерние молитвы должны совершаться сообща, но каждому учащемуся должна быть предоставлена возможность иметь и свою личную, особую молитву, соответственно вынесенной им из семьи привычке и его личной потребности. Для этого школьный храм не должен запираться в течение всего школьного дня».
5. «Религиозная жизнь школы может идти правильно лишь при условии согласной работы в этом направлении всех руководителей школы» [6].
6. «Закон Божий в средней школе является, с одной стороны, предметом учебным, с другой стороны, предметом воспитательным».
7. «Как учебный предмет Закон Божий должен дать учащимся знания ясные, отчетливые, сознательные и прочные, и к учащимся должны быть предъявлены не менее серьезные и строгие учебные требования по Закону Божию, как и по другим предметам» [6].
Подробной разработкой программы по Закону Божьему для русских учебных заведений в эмиграции занялась специальная комиссия в составе о. С. Четверикова, о. В. Зеньковского, о. П. Бело-видова, о. Я. Ктитарова, о. С. Булгакова, а также П.Д. Долгорукова и В.К. Недельского. Комиссия особое внимание уделяла выбору средств и методов религиозного воспитания и обучения. О.Я. Ктита-ров в докладе «Религия в детской душе» на Втором съезде деятелей русской школы за границей предложил вместо уроков Закона Божьего ввести беседы законоучителя с учащимися, в которых бы не было ни домашних заданий, ни оценок. Самым действенным методом обучения, по мнению О.Я. Ктитарова, может стать «проповедь-беседа, дающая не столько знания, сколько переживания и духовное удовлетворение. Учебное помещения для занятий по Закону Божьему должно быть оборудовано в церковном духе: иконы, лампады, свечи, духовная библиотека, отдельный для каждого учащегося стол с Библией» [8, с. 23]. Предметом бурной полемики стали вопросы содержания учебного материала. Комиссия рекомендовала особое внимание уделять «преподаванию Ветхого и Нового Завета, ознакомлению с житиями святых, уяснению основных различий между православной церковью и иностранными вероисповеданиями, сообщению сведений о главных моментах всеобщей и русской церковной истории, а также физическому развитию детей» [9, с. 292].
Было решено в преподавании Закона Божьего разделить весь курс на 3 концентрата по 2 часа преподавания в неделю: для младших классов, где изучались элементарные сведения, основные молитвы, краткий катехизис и главные богослужения; для средних классов, где основной упор делался на изучение священной истории Ветхого и Нового Завета; и для старших школьников, которые изучали общую историю христианства, историю русского православия, читали Священное Писание [10, с. 68].
В русском зарубежье «первой волны» было издано новое учебное пособие для детей младшего, среднего и старшего возраста - «Первая книга по Закону Божьему», являющаяся результатом коллективного труда нескольких авторов. Старые руководства по «Священной истории» и «Катехизису», содержащие тексты богослужебных книг, нуждались в педагогических обоснованиях, дополнениях, переводах, что не всегда было возможно осуществить и религиозным деятелям. Поэтому новый труд выступал решением этой задачи, способствовал приближению к детскому сознанию предметов веры.
Эти программы использовались как в школах и гимназиях русского зарубежья, так и в образовательных учреждениях интернатного типа - девичьих институтах, русских кадетских корпусах, военных училищах. Наиболее планомерная и систематическая забота о сохранении православных традиций проявлялась в кадетских корпусах зарубежной России (в 1920-30-х годах в русском зарубежье функционировало 5 таких заведений).
При кадетских корпусах и военных училищах в эмиграции, так же как и в дореволюционной России, обязательно состояли православные священнослужители, которые вели богослужения, преподавали курс Закона Божьего. Кадеты и юнкера обязательно посещали церковь, где, кроме богослужений и молебнов, принимали участие во встречах и беседах с настоятелями. В каждом военном учебном заведении обязательно была корпусная церковь. «Во все годы существования Корниловского военного училища неотъемлемой его частью была своя церковь. Настоятель ее числился в постоянном штате служащих. Училищный хор был на высоте своего призвания под управлением дипломированного регента; имело место и светское хоровое пение. В числе юнкеров было два талантливых художника-живописца М. Половинин и В. Шестериков, благолепной росписью украсивших училищную церковь» [11, с. 16]. А при Крымском кадетском корпусе действовал храм Святых равноапостольных Константина и Елены, иконостас в которой был создан руками кадет, а необходимая церковная утварь и иконы в основном были пожертвованы русскими эмигрантами.
Михаил Скворцов, один из выпускников Первого Русского кадетского корпуса, вспоминал, какое значение для кадет имела молитва: «Мне до сих пор не удалось нигде прочесть, чтобы молитве ко Всевышнему в общем строю, ее колоссальному значению в воспитании людей давалась достойная оценка. А ведь множество уст становятся едиными устами, множество сердец - единым сердцем, локтями чувствуешь своих соседей слева и справа... Нет, я убежден, что сила общей молитвы неизмерима, а красота ее неописуема! И эту красоту особенно чувствуешь именно в строю, а в кадетском -еще сильнее. Вот почему мне думается, что в новых открывающихся Корпусах без ежедневной общей молитвы в строю будет утеряна его, этого строя, огромная духовная сила. Главное, какими бы замечательными качествами ни отличались стоящие в строю, без общей молитвы они никогда не почувствуют себя принадлежащими к Христолюбивому Воинству» [12, с. 34].
Религиозное воспитание юных эмигрантов проходило как в учебной, так и во внеучебной деятельности. Протоиерей Владимир Востоков, одно время являвшийся законоучителем русской гимназии в Кикинде (Сербия), а затем ставший разъездным священником-миссионером в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев, рекомендует четыре основных направления, делающих религиозное воспитание детей более эффективным: «участие в литургии; усвоение примеров русских святых, бывших не только молитвенниками, но и мудрыми строителями отечества; усвоение истины, что Православный Царь необходим нам для возрождения страны; передача дела воспитания в школе исповедникам завета за Веру, Царя и Отечество» [13, с. 29].
Однако далеко не все дети эмиграции могли быть помещены в кадетские корпуса или имели возможность посещать русские школы. Как писал кн. П.Д. Долгоруков в докладе «О мерах борьбы против денационализации русских беженских детей» (1924), если невозможно создать полноценное русское учебное заведение и русские дети посещают местные школы, то для предотвращения денационализации необходимо «устраивать дополнительные русские курсы по преподаванию Закона Божия, русского языка и литературы, истории и географии России, родиноведения» [14, л. 143].
Национальное религиозное воспитание детей, которые не были охвачены православными церковными приходами, осуществлялось Религиознопедагогическим кабинетом и Русским христианским студенческим движением (РСХД). Повсеместно создавались детские и юношеские группы религиозного образования, а затем и церковноприходские школы, ведущие занятия по русским национальным предметам (русская словесность, Закон Божий, история России, русская православная музыка). Такая школа могла принять до 50 русских детей, обеспечить им нахождение в русской культурной среде, что в свою очередь эффективно содействовало сохранению национального самосознания детей и подростков.
В 30-е годы в русском зарубежье происходит постепенное сокращение числа русских школ, гимназий и учебных заведений интернатного типа, и поэтому вновь возрастает опасность денационализации и потери православной веры. В связи с этим русская религиозная и педагогическая общественность расширяет работу по созданию воскресно-четверговых школ. Как считали сотрудники Религиознопедагогического кабинета, «национальное воспитание осуществляется лишь через уяснение религиозного смысла чувства Родины... Пути воспитания национального чувства идут лишь через общее развитие духовной жизни, а не через обрядовую религиозность» [16, с. 8].
Посещение русских воскресно-четверговых школ детьми в возрасте от 5 до 18 лет было добровольным и только в праздничные и выходные дни (воскресенье и четверг). В зависимости от возраста ученики разделялись на группы:
- в младшей группе (5-9 лет) занятия носили преимущественно игровой характер - рисование, игры, разучивание несложных русских песен, чтение национальных сказок и рассказов о житиях святых, освоение русской азбуки, а также молитв;
- в средней группе (10-14 лет) на занятиях проводились беседы по отечествоведению и различным вопросам православия;
- в старшей группе (14-18 лет) на занятиях по четвергам более подробно и глубоко изучался Закон Божий, русский язык, история, география и литература России, а по воскресеньям встречи в школе носили характер детского клуба. Обязательно проводились общешкольные праздники, где в картинках волшебного фонаря озвучивался материал, изученный на занятиях по Закону Божьему и истории России. Естественно, что в воскресно-четверговых школах непременно отмечались как православные, так и традиционные русские праздники.
Таким образом, анализ системы религиозного воспитания в русском зарубежье позволяет выделить несколько его важнейших черт: выстраивание педагогической стратегии с учётом сложившейся ситуации, обязательное соотнесение учебно-воспитательной деятельности с православным церковным календарем, тесная связь церковных приходов с семьями детей и подростков, освоение национальных традиций через разнообразные формы игровой, учебной и творческой деятельности воспитанников.
Именно православие в русском зарубежье в 1920-1930-е годы явилось основополагающим компонентом национального самосохранения детей и юношества эмиграции, решающим не только традиционные задачи религиозно-нравственного воспитания, но способствующим предотвращению денационализации русских детей в сложных инокультурных условиях.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Зеньковский, В.В. Педагогика [Текст] / В.В. Зеньковский. - М., 2004. - 223 с.
2. Дети эмиграции: Воспоминания : сб. статей [Текст] /под ред. В.В. Зеньковского. - М., 2004. - 256 с.
3. Седова, Е.Е. Педагогическая теория и образовательная практика российского зарубежья первой половины ХХ века [Текст] / Е.Е. Седова // Педагогика. - 2008. - №1. - С. 83-91.
4. Шумкина, А. Воскресная школа [Текст] / А. Шумкина // Вестник РСХД. - Париж, 1927. - № 6. - С. 2223.
5. Ильин, И.А. Путь к очевидности [Текст] / И.А. Ильин. - М., 1993. - 431 с.
6. Четвериков, С. О задачах и средствах религиозного воспитания и образования в русской средней школе :
доклад Педагогическому бюро в 24-х положениях [Электронный ресурс] / С. Четвериков. -
(http://lib.znate.ru/docs/index-70858.html).
7. Урядова, А.В. Вопросы религиозного воспитания и образования на педагогическом съезде русской эмиграции в 1925 году [Текст] / А.В. Урядова // Макарьевские чтения : материалы VIII Международной конференции. - Горно-Алтайск : РИО Горно-Алтайского государственного университета, 2009. - С. 320-333.
8. Резолюции Съезда деятелей средней и низшей русской школы заграницей [Текст] // Бюллетень педагогического бюро. - Прага,1923. - №1. - С. 23-24.
9. Религиозно-педагогическое совещание в Париже [Текст] // Русская школа за рубежом. - Прага, 19271928. - №26. - С. 292.
10. Закон Божий. Резолюция II-го Педагогического съезда по предложениям Комиссии по Закону Божию [Текст] // Бюллетень Педагогического бюро. - Прага, 1926. - №10. - С. 67-70.
11. Корниловское военное училище. Краткий очерк [Текст] // Журнал Общества ветеранов войны 1914-18 гг. - Сан-Франциско, 1934.
12. Гурковский, А. Церковная жизнь и кадетство [Текст] / А. Гурковский // Шестое чувство: духовносветское культурно-просветительское издание. - 2007. - №3. - С. 32-38.
13. Бюллетень Педагогического бюро по делам средней и низшей русской школы заграницей [Текст]. - Прага, 1924. - №3.
14. ГАРФ, Ф. 5785, Оп. 2, Д. 23.
15. Вестник РСХД [Текст]. - Париж, 1929. - №3.
16. Вестник РСХД [Текст]. - Париж, 1929. - №6.
17. Склярова, Т. Религиозный аспект педагогической деятельности в среде русской эмиграции первой половины ХХ века [Текст] / Т. Склярова // Вестник православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Сер. 1. Богословие. Философия. Религиоведение. - 2003. - № 1. - С. 194-212.
УДК 51-37
кандидат педагогических наук, доцент кафедры информатики, информационных технологий и защиты информации;
кандидат технических наук, доцент кафедры информатики, информационных технологий и защиты информации,
Липецкий государственный педагогический университет
АННОТАЦИЯ. На основе анализа требований ФГОС ВО к подготовке специалистов по направлению «Информатика» и сложившейся практики обучения и профессиональной сертификации предложены некоторые методические подходы к отбору изучаемых объектов и содержанию лабораторных работ для формирования практических навыков разработки и модификации конфигурации на платформе «1С: Предприятие 8.2».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формирование компетенции, информационные технологии, платформа «1С: Предприятие 8.2», разработка конфигурации.
Cand. Pedagog. Sci., Docent of the Department of Computer Science,
Information Technologies and Protection of Information;
Cand. Tech. Sci., Docent of the Department of Computer Science,
Information Technologies and Protection of Information,
Lipetsk State Pedagogical University
ABSTRACT. Based on the analysis of requirements of the FSES HPE (Federal State Educational Standards of Higher Professional Education) for preparing specialists in the field of computer science and the practice of training and professional certification, some methodological approaches to the selection of the studied objects and the content of laboratory works for inhancing practical skills in development and modification of configuration on the platform 1C Enterprise 8.2. are proposed.
KEY WORDS: competence formation, information technology, 1C Enterprise 8.2., the design configuration.
Федеральный государственный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) предусматривает формирование теоретических знаний и практических навыков применения современных информационных технологий [1]. Производственно-технологическая деятельность указана в ФГОС ВО как один из основных видов профессиональной деятельности для ряда направлений подготовки бакалавров: 01.03.02 «Прикладная информатика и математика», 44.03.05 «Педагогическое образование» с двумя профилями подготовки - «Математика» и «Информатика», 09.03.03 «Прикладная информатика в экономике». Готовность к этому виду деятельности определяется рядом компетенций. Обобщив основные образовательные программы высшего образования (ООП ВО) ряда вузов, мы выделили компетенции, отнесенные к производственно-технологической деятельности [2; 3; 4], такие как:
- способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информационных систем (ИС);
- способность эксплуатировать и сопровождать ИС и сервисы;
- умение проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС;
- способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного обеспечения ИС;
- умение вести базу данных и поддерживать информационное обеспечение решения прикладных задач;
- способность осуществлять презентацию ИС и начальное обучение пользователей;
- способность составлять и контролировать план выполняемой работы, планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты собственной деятельности.
Формирование этих компетенций в соответствии с ООП ВО обеспечивается (как указано в рабочих программах) в процессе изучения дисциплин профессионального цикла. Для того чтобы при выполнении лабораторных работ студенты получили опыт эксплуатации, адаптации ИС, вуз обязан предоставить лицензионные русифицированные учебные версии среды разработки этих ИС как на занятиях в стенах вуза, так и для выполнения самостоятель-
Информация для связи с автором: bellgaluva@mail.ru
ной работы студентов. Это необходимое требование ФГОС ВПО в части материально технических условий реализации образовательного процесса в вузе в соответствии с ООП ВО. Мы полагаем, что использование платформы «1С: Предприятие 8.2 (8.3)» как в качестве среды разработки конфигурации, так и для решения прикладных задач, приемлемо в вузе по ряду причин.
1. Есть бесплатная учебная версия лицензионного программного обеспечения. Учебная версия конфигурация доступна студентам на официальном сайте компании «1С» [5].
2. Отечественный разработчик предоставляет русифицированную версию платформы.
3. Компания «1С» является российским потенциальным разработчиком и работодателем, имеющим более миллиона пользователей в России как среди малого, среднего, так и среди ERP-систем для крупного бизнеса.
4. Платформа «1С» активно использует облачные технологии, расширяя круг потенциальных потребителей за счет снижения их затрат при переходе на абонентскую плату за использование программного обеспечения.
5. «1С: Франчайзинг» предоставляет услуги аутсорсинга учетных и бухгалтерских задач [6].
На лабораторных работах по дисциплине «Информационные технологии в экономике» студенты создают «с нуля» или модифицируют ИС на платформе «1С: Предприятие 8.2», осваивая на практике возможности и механизмы, предоставляемые учебной версией. Для выполнения части лабораторных работ дома, в соответствии с учебным планом самостоятельных работ, они располагают лицензионным продуктом и электронной версией учебника [7]. В аудиториях вуза установлены лицензионные учебные версии платформы.
Обратимся к проблеме отбора содержания и организации лабораторных работ на платформе «1С». На первый взгляд, издано достаточно много печатной и электронной учебной литературы для обучения программированию на платформе «1С», отработана методика и спланирована организация обучения. Но какие проблемы возникают при использовании этой наработанной методики?
Первое отличие занятий в вузе и на курсах, организуемых фирмами «1С: Франчайзинг» и проводимых, как правило, в течение одной недели, заключается в том, что зачастую в учебной литературе для студентов вузов приводятся варианты индивидуальных заданий для выполнения самостоятельной работы. Тогда как в издаваемых учебниках для проведения курсов отсутствует вариативность заданий, поскольку рассматривается последовательное построение одной конфигурации. Основной издатель этих книг - компания «1С». И поэтому уроки расписаны по занятиям на курсах для обучения во франчайзинг-компаниях «1С». При этом средний объём изданий для начинающих - около 800 страниц. Причины сложившегося подхода к содержанию учебников в том, что их авторы рассчитывают на иной контингент обучающихся, иные условия обучения и иную мотивацию читателя. Учебные материалы написаны для слушателей курсов повышения квалификации, занимающихся в малых группах, либо индивидуально обучающихся программистов, занятых самообразованием.
Второе отличие организации занятий в вузе заключается в том, что преподаватель обязан контролировать уровень самостоятельности разработки конфигурации студентом. Если слушатель курсов не успевают выполнить задание, то преподаватель, чтобы синхронизировать работу в аудитории, даёт ему готовую часть конфигурации. Поскольку мотивация слушателей напрямую связана с будущей профессиональной деятельностью, они дома самостоятельно разберутся с появившимся пробелом в учебе. Для тех, кто самостоятельно обучается программированию, имеет смысл только самоконтроль. В вузе педагог обязан обеспечить контроль уровня самостоятельности работы каждого студента, уложиться в отведенное на проверку лабораторной работы время на занятиях. Для этого необходимо привлечь самого студента в рамках формирования компетенции «способность оценивать результаты собственной работы». Одно из средств, предоставляемых информационными технологиями (журнал регистрации), нужно эффективно использовать в учебном процессе для организации контроля деятельности студентов на аудиторных занятиях и во время самостоятельной работы. В платформе «Журнал регистрации 1С» используется для регистрации событий, которые происходили в информационной базе в определенный момент времени, и действий каждого пользователя. Он доступен в главном меню как в режиме «Конфигуратор» («Администрирование»), так и в режиме «1С Предприятие» («Все функции», «Стандартные»). Используются возможности настройки журнала регистрации, чтобы определить, какую именно информацию в нем хранить. Общий вид журнала регистрации и его настройка приведены на рис. 1.
4-5-5 е Л5'Е и.
ГЕ (онфигуратор (учебная версия) - Иванов студент
Файл Правка Конфигурация Отладка Администрирование Сервис Окна Справка
пав «■ •* о,!
В I я ш * .
3 Журнал регистрации <3>
Действия - |M* А (*+) Щ Ч| ^ ft О
|
Дата, время |
Событие |
Статус транзакции |
Метаданные |
|
Компьютер |
Представление данных | ||
|
30.09.201620:53:16 |
Данные. Изменение |
Зафиксирована |
Документ. Оказание услуги |
|
Оказание услуги 000000001 от 27.09.201614:26:35 | |||
|
30.09.2016 20:53:16 |
Данные. Проведение |
Зафиксирована |
Документ. Оказание услуги |
|
I5 |
Оказание услуги 000000001 от 27.09.2016 14:26:35 | ||
Настройка журнала регистрации
- Регистрировать в журнале события-
О Не регистрировать О Регистрировать ошибки О Регистрировать ошибки, предупреждения О Регистрировать ошибки, предупреждения, информацию (*) Регистрировать ошибки, предупреждения, информацию, примечания
0003 о
29.09.2016 14:29:57
0003 о
29 09 2016 14:29:57
0002 о
22.09.2016 1 443:33
Разделять хранение журнала по периодам | Не разделять
•»- | | Сократи
it 22.09.2016 1443:33
Рис. 1 - Общий вид журнала регистрации и его настройка
Журнал регистрации отличается от технологического журнала, который существует в платформе «1С», начиная с версии 8.2, как специальный механизм с протоколами всех событий в системе, включая системные ошибки.
Журнал регистрации как объект, создаваемый по умолчанию при работе в 1С: Предприятие 8.2, автоматически включает в себя протокол всех действий с конфигурацией. Мы предлагаем студенту прилагать распечатку журнала в отчет по каждой лабораторной работе. Содержание граф журнала регистрации - «Дата», «Время», «Компьютер», «Сеанс», «Данные» - позволяет преподавателю быстро контролировать процесс обучения, а именно отслеживать, на каком компьютере и какие объекты создавал, модифицировал студент, какие сделал ошибки, самостоятельно ли работал.
Третье отличие. Проблемы поиска ошибок, сделанных студентами при работе с конфигурацией, решаются в вузе иначе, чем на курсах повышения квалификации. Тем, кто самостоятельно обучается программированию, важнее всего самоконтроль, при этом они дотошно сверяют свои результаты с теми, что напечатаны в учебнике, консультируются на сайтах профессиональных программистов, как устранить возникшие ошибки. В вузе же нужен контроль со стороны педагога.
Четвертое отличие в том, что консультация педагога во время занятий в аудитории организована иначе, чем в малой группе на курсах в компании. Для того чтобы проверить правильность работы студентов при создании и модификации конфигурации, преподаватель не имеет достаточно времени (в соответствии с учебным планом), следовательно, он не может обнаружить неизбежные ошибки в конфигурации каждого студента. Если ошибка не будет вовремя обнаружена, студенту придется переделывать большое количество лабораторных работ. Значит, надо научить студентов так составлять контрольные примеры, чтобы ошибка была очевидной. Это позволит сформировать компетенцию «умение проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС».
Пятое отличие. Мы обучаем и учителей, и специалистов по прикладной информатике и математике, которым в свою очередь придется обучать как минимум пользователей ИС. Поэтому определяем требования к печатному отчету по лабораторным работам так, чтобы сформировать компетенцию «способность осуществлять презентацию ИС и начальное обучение пользователей». Итоговая лабораторная работа, например, должна представлять собой текст сценария видеоролика, сам видеоролик-презентацию возможностей разработанной ИС и обучение её пользователей. Качество видеоролика оценивают все студенты группы, доказывая достоинства и недостатки, точность и полноту представления выполненной работы.
Шестое отличие. Необходимость обеспечить студентам возможность выбора индивидуальной образовательной траектории. Важно предоставить студентам возможность и организовать их участие в ряде мероприятий в стенах вуза по получению сертификатов, подтверждающих их профессиональные достижения, если они желают на профессиональном уровне освоить платформу «1С». Вариативность в ФГОС ВПО рассматривается как возможность выбора определённого направления в образовании. В данном случае принцип вариативности должен стимулировать способность студентов к саморазвитию, обеспечивать умение учиться.
Мы организовали занятия так, чтобы разработка конфигурации была индивидуальной (не было соблазна списать чужую конфигурацию). Для этого студенты заполняют разрабатываемую базу данных подготовленными самостоятельно данными. Приветствуется использование интернет-ресурсов в ходе лабораторных работ. Например, студент выбирает предметную область «Автоматизация учета в фирме по оказанию услуг - организация торжеств». Далее он осваивает производственно-технологическую деятельность: постановку задачи и разработку информационной системы. Студент изучает предметную область, разрабатывает информационную систему, может сравнить, как ведется учет экономических показателей, движения документов в этом в бизнесе, уясняет, в чем заключаются сходства и отличия в учете показателей хозяйственной деятельности. На сайтах небольших фирм он изучает и сравнивает автоматизацию учета бизнеса. Обучающийся обнаруживает, что практически учет экономической деятельности в малом бизнесе единообразен. Таким образом, на основе разработки студентами весьма близких конфигураций мы обеспечиваем вариативность за счет детализации. Обязательный минимум объектов и связей объектов метаданных создают все студенты, часть из них выполняет дополнительные задания (по желанию).
До проверки отчета по лабораторной работе преподавателем студент сам анализирует протокол своих действий с конфигурацией. Оптимизация процесса обучения заключается в том, чтобы формировать ряд компетенций одновременно. Опыт анализа собственной производственно-технологической деятельности, с одной стороны, позволяет студенту освоить инструмент разработки ИС, а с другой стороны, формирует навык поиска не только собственных ошибок, но и ошибок своих будущих учеников.
Студенты используют выгрузку данных журнала регистрации в табличный документ (возможны выгрузки в текстовый документ, документ XML), чтобы потом анализировать свои действия. Данные можно анализировать средствами встроенного языка. В силу ограниченности учебного времени этот вариант не рассматривается в курсе. Поскольку платформа регистрирует все действия пользователей в каждой сессии работы с ИС, мы можем контролировать работу студентов. В задании по каждой лабораторной работе обучающемуся необходимо распечатать в отчете и проанализировать журнал регистрации, установив отбор по тем датам, когда он выполнял именно эту работу. Анализируются следующие параметры: продолжительность работы, количество сеансов, ошибки в ходе создания и модификации ИС. Анализируются как сообщения об ошибках, так и факты удаления объектов. Проверяется, как заполнялась ИС. Например, анализ документа «Оказание услуги №2» (рис. 2) включает требование определить, как именно его заполняли и проводили и какие ошибки были сделаны.
Обучая студентов создавать и модифицировать ИС, нам следует формировать у них навык использования механизмов, заложенных в ИС и информационных технологиях, для:
а) проведения хронометража собственного рабочего времени, потраченного на деятельность с объектами при разработке и модификации конфигурации;
б) проведения хронометража рабочего времени пользователей, потраченного на ввод и модификацию исходных данных конфигурации при организации обучения пользователей;
в) сравнительного анализа затрат труда и качества как собственного труда, так и труда пользователей ИС в процессе её эксплуатации для формирования компетенции «способность эксплуатировать и сопровождать ИС и сервисы».
|
I Файл Правка Таблица Конфигурация Отладка Администрирование Сервис Окна Справка ты * к- ui + + af д*>в©т Щ53 Ш ® _ I Ж К Ч =_=._==| # Шрифт диалогов и 1 » |»J_ | ||j | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 | |
|
1 |
Дата, время |
Событие |
Статус транзакцг |
Метаданные |
|
2 |
Компьютер |
Представление данных | ||
|
3 |
30.09.2016 20:47:01 |
Данные. Изменение |
Зафиксирована |
Документ. Оказание услути |
|
4 |
15 |
Оказание услуги 000000002 от 22.09.2016 14:43:33 | ||
|
5 |
30.09.2016 20:47:01 |
Данные. Проведение |
Зафиксирована |
Документ. Оказание услуги |
|
6 |
15 |
Оказание услуги 000000002 от 22.09.2016 14:43:33 | ||
|
7 |
30.09.2016 20:52:54 |
Данные. Изменение |
Зафиксирована |
Документ. Оказание услуги |
|
S |
15 |
Оказание услуги 000000002 от 22.09.2016 14:43:33 | ||
|
9 |
30.09.2016 20:52:54 |
Данные. Проведение |
Зафиксирована |
Документ. Оказание услуги |
|
10 |
15 |
Оказание услуги 000000002 от 22.09.2016 14:43:33 | ||
|
11 |
30.09.2016 20:55:03 |
Данные. Изменение |
Зафиксирована |
Документ. Оказание услуги |
|
12 |
15 |
Оказание услуги 000000002 от 22.09.2016 14:43:33 | ||
|
13 |
30.09.2016 20:55:03 |
Данные. Проведение |
Зафиксирована |
Документ. Оказание услуги |
|
14 |
15 |
Оказание услуги 000000002 от 22.09.2016 14:43:33 | ||
|
15 |
01.10.2016 11:35:38 |
Данные. Изменение |
Зафиксирована |
Документ. Оказание услуги |
|
16 |
15 |
Оказание услуги 000000002 от 22.09.2016 14:43:33 | ||
|
17 |
01.10.2016 11:35:38 |
Данные. Проведение |
Зафиксирована |
Документ. Оказание услуги |
|
18 |
15 |
Оказание услуги 000000002 от 22.09.2016 14:43:33 | ||
Рис. 2 - Использование фильтрации для просмотра действий пользователя с документом «Оказание услуги №2»
Для того чтобы студенты могли выбрать индивидуальную образовательную траекторию и углубленно изучать платформу «1С», наш вуз заключил партнерское соглашение с одной из франчайзинг-фирм города. С учетом факта, что фирмы франчайзинг в любом российском городе придерживаются политики сотрудничества с вузами, подобное соглашение могут заключить вузы по инициативе кафедр, выпускающих специалистов, чья производственно-технологическая деятельность связана с информационными технологиями. На основе соглашения наши студенты имеют возможность ежегодно участвовать в стенах вуза в следующих всероссийских мероприятиях, проводимых компанией «1С» в РФ:
1. День 1С-карьеры.
2. Отборочный, региональный, российский этапы олайн-конкурса «1С ИТС» (информационно технологическое сопровождение), начиная с мастерклассов и вебинаров.
3. Отборочные онлайн-туры ежегодных международных олимпиад по 1С-программированию.
4. Бесплатное онлайн-тестирование студентов на
получение сертификатов «1С: Профессионал» и
«1С: Специалист» два раза в год.
При выполнении лабораторных работ все студенты осваивают необходимый минимум навыков производственно-технологический деятельности. Мы обращаем внимание на тех студентов, которые уделяют большое внимание оформлению отчетов по лабораторным работам, делая их как качественный материал для обучения пользователей ИС. Учитывая эту способность обучать, мы предлагаем таким студентам дополнительную возможность - трудоустройство в фирме франчайзинг в качестве педагога для школьников. Последние годы компанией «1С» взят курс на организацию обучения школьников программированию и использованию информационных технологий, поэтому складывается емкий рынок труда для педагогов выпускаемых нами специальностей. Таким образом, в соответствии с принципом вариативности ФГОС мы формируем мотивацию к учению и познанию.
В качестве примера приведем использование предложенного подхода при подготовке бакалавров направления «Государственное и муниципальное управление». Для получения опыта использования информационных технологий студенты проходят практику в учреждениях государственного и муниципального управления РФ. Получить опыт информационно-технологического сопровождения ИС и использовать ИС на практике для поиска информации к семинарам и экзаменам по специальным дисциплинам студенты смогли, приняв участие в конкурсе «1С ИТС» (информационно технологическое сопровождение) [8]. Вначале для них в стенах вуза представителями фирмы франчайзинг были проведены мастер-классы по обучению поиску информации в этой системе. Результаты массового участия студентов в онлайн-тестировании на отборочном туре показали, как можно эффективно реализовать междисциплинарные связи, например, дисциплин «Основы математического моделирования социально-экономических процессов» и «Бухгалтерский учет» на основе информационных технологий использования справочных систем в корпоративных сетях. Доступ к справочной системе информационно-технологического сопровождения компании «1С» был открыт студентам на 2 месяца (время тестирования). Анализ процесса тестирования показал, что студенты научились самостоятельно работать с этой ИС. Опрос студентов свидетельствовал о том, что информационная технология, предложенная им, освоена быстро и эффективно, поскольку тут же была использована не для решения учебных примеров, а для поиска ответов на профессионально значимые вопросы по их специальности.
Предложенный подход и методика использования отечественных разработок в сфере информационных технологий в учебном процессе и сотрудничества с крупнейшими отечественными производителями, на наш взгляд, позволяет успешно выполнять требования ФГОС ВПО в современных условиях.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 53 54 55 56 57 58 59 60
УДК 378.146
кандидат филологических наук, доцент кафедры французской филологии;
БОРИСОВ Олег Витальевич,
магистр 2 года обучения,
Воронежский государственный университет
АННОТАЦИЯ. Анализируется специфика применения компетеностно-ориентированной системы оценивания в контексте смешанного обучения на материале курса «Лингводидактические проблемы в возрастной педагогике», читаемого для студентов магистратуры ВГУ «Преподавание иностранных языков с использованием он-лайн технологий» по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». Обосновывается актуальность нового подхода к оценочной деятельности ввиду внедрения новых ФГОС, рассматриваются отличия компетентностного подхода к оцениванию от традиционного знаниево-ориентированного. Также обосновываются преимущества альтернативных форм оценивания со сложным результатом над традиционно применяемыми тестами, описывается алгоритм их использования для текущего, итогового, взаимного оценивания и самооценивания в концепции «оценивания в обучающих целях». Авторы приходят к выводу о том, что электронное оценивание способствует развитию мотивации профессиональной деятельности и оценочной (квалиметрической) компетенции будущих преподавателей иностранного языка. Оно также развивает рефлексию и сознательность студентов по отношению к учебному процессу, обеспечивает прозрачность за счет разработки четких критериев и позволяет оценивать динамику учебных результатов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: смешанное обучение, оценочная деятельность, педагогическое образование, электронное оценивание, Moodle, текущее оценивание, итоговое оценивание.
Cand. Philolog. Sci., Docent of the Department of French Philology;
2nd Year Master’s Student,
Voronezh State University
ABSTRACT. The article analyses featuresof applying competence-oriented approach assessment system in blended learning in the framework of the course "Linguo-Didactic Issues in Age Appropriate Pedagogy'' for students of VSU (Voronezh State University) Master's Programme ''Teaching Foreign Languages with Online Technologies'' (field of studies 44.04.01 — Teacher Training). The authors justify the need to introduce a new approach towards the assessment in view of the introduction of new Federal Educational Standards. They consider major differences between competence-oriented approach to assessment and traditional knowledge-oriented approach. The article points out the advantages of alternative forms of assessment when compared to traditionally used tests, describes the principles of their use in formative, summative, peer assessment and selfassessment in assessment for learning. The authors conclude that e-assessment enhances students’ motivation for professional activity and the assessment competence of the future foreign language teachers. It also develops students’ reflection and awareness when it comes to the learning process, ensures transparency via the development of clear criteria and allows assessing the progress of students’ learning outcomes.
KEY WORDS: blended learning, assessment, teacher training, e-assessment, Moodle, formative assessment, summative assessment.
П продолжающаяся в настоящее время реформа высшего образования в Российской Федерации направлена на модернизацию российской образовательной системы и ее активную интеграцию в мировое образовательное пространство в соответствии с принципами Болонской декларации.
Одним из инструментов реализации реформы стало внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения. Ключевые отличия новых регламентирующих документов можно описать следующим образом:
- введение понятия «результат обучения» как системы знаний и умений, необходимых для успешной интеграции на рынке труда;
- создание непрерывной системы контроля качества образования, в том числе за счет совершенствования методик и методологии оценивания;
- компетентностный подход к представлению результатов обучения: его ключевое отличие состоит в том, что в состав компетенции включены не только знания, умения и навыки, но и «личностные качества (инициативность, целеустремленность,
Информация для связи с автором: svetlanbulgakov@yandex.ru, oleg140993@mail.rumail.ru
способность к корректному целеполаганию, ответственность, толерантность и т.п.), социальная адаптация (умение работать как самостоятельно, так и в коллективе, соотносить планирование и результаты своей деятельности с потребностями общества и т.п.), а также опыт профессиональной деятельности (и шире - творческой деятельности в избранной сфере и за ее пределами)» [1, с. 155-156].
В этой связи исследователи говорят о необходимости компетентностной ориентации не только содержания и структуры образовательного процесса, но и переориентирования процедур, средств и методов оценивания [2, с. 72].
Действительно, между традиционно применяемой в вузе знаниево-ориентированной (когнитивной) системой оценивания и компетентностным подходом к формированию специалиста наметился целый ряд противоречий.
Недостатки традиционной системы оценивания были подытожены в письме Министерства образования РФ «Стратегия модернизации содержания общего образования» в 2001 году. Несмотря на то, что сформулированные положения касались контрольно-оценочной системы общего образования, многие из них могли бы быть применены и к вузовской системе оценивания:
- ориентация на оценивание освоения содержания обучения на репродуктивном уровне на основе алгоритмов действий;
- отсутствие системы оценивания, ориентированной на иные, помимо фронтальной, формы работы: индивидуальную, проектную, творческую;
- отсутствие целенаправленной педагогической работы, направленной на развитие у учащихся способностей к самоконтролю и самооценке;
- ориентация на санкции, а не на педагогическую поддержку учащихся;
- «субъективизм» и «авторитарность» системы контроля и оценивания;
- отсутствие учета динамики учения и обучения в процессе оценивания [3, с. 310].
С другой стороны, личностно ориентированный деятельностный подход к обучению, который лежит в основе компетентностной модели выпускника, подразумевает:
- оценку творческой деятельности выпускника, которая предусматривает поиск решений новых профессиональных задач в условиях отсутствия готовых алгоритмов действий и знаний;
- практико-ориентированный характер оценивания, который должен быть максимально приближен к условиям будущей профессиональной деятельности;
- использование наряду с индивидуальной оценкой групповой, а также взаимной оценки и рецензирования работ студентами [1, с. 157].
- рассмотрение оценки как средства повышения познавательной мотивации обучения студентов [4, с. 174].
Иначе говоря, современная система оценки должна трансформировать студента из пассивного слушателя в активного участника образовательного процесса и обеспечивать в первую очередь оценку не фиксированного уровня знаний, а динамики образовательных результатов [5, с. 121].
Проблема оценивания, безусловно, актуальна по отношению к любой программе подготовки специалиста, независимо от профиля. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что оценивание играет особую роль в подготовке будущих педагогов.
Умение осуществлять оценочную деятельность относится к основополагающим элементам профессиональной компетенции педагога. В соответствии с изданным Минобрнауки РФ «Профессиональным стандартом педагога» учитель должен:
- уметь объективно оценивать знания учеников, используя разные формы и методы контроля;
- владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной работы [6, с. 15].
Оценочная (квалиметрическая) компетенция определяется как «готовность и способность применять полученные в ходе обучения квалиметриче-ские знания и умения; использовать определенные личностные качества и опыт для выполнения оценочных задач результатов обучения и для контроля качества полученных знаний и умений, а также для прогнозирования итогов обучения; умение передавать полученные квалиметрические знания будущим воспитанникам» [5, с. 121]. Оценочная компетенция преподавателя наряду со знаниями и умениями, приобретаемыми в ходе освоения специализированных дисциплин, обусловлена и опытом оценочной деятельности педагога [7, с. 208].
Оценочная компетенция педагога, таким образом, складывается из трех взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов:
- аксиологический компонент, который подразумевает ценностные установки преподавателя относительно его оценочной деятельности;
- когнитивный компонент, который включает знания в области современных технологий оценивания;
- праксиологический компонент, который описывает реализуемые в образовательной деятельности навыки и практики оценивания [там же].
Очевидно, что формирование праксиологического компонента происходит в том числе и под влиянием технологий и методик оценивания, используемых преподавателями в процессе подготовки будущих педагогов.
Включение современных методик и технологий оценивания поможет избежать противоречий, с которыми сталкиваются многие молодые педагоги, следуя принципам личностно ориентированного обучения, о которых им рассказывали в вузе; в оценочной деятельности они остаются на позициях традиционного оценивания [там же].
Следовательно, компетентностная ориентация технологий и практик оценивания является одним из ключевых факторов в решении задачи подготовки высококвалифицированных преподавателей иностранных языков.
Цель данной статьи - рассмотреть специфику средств, технологий и принципов оценивания в рамках подготовки специалистов по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» в ходе реализации магистерской программы «Преподавание иностранных языков с использованием онлайн-технологий».
Данная магистерская программа была разработана на основе семи профессионально-ориентированных модулей, созданных рабочей группой специалистов из вузов - членов консорциума международного проекта «Темпус DeTEL». Цель проекта - обеспечение системы качественной подготовки высококвалифицированных специалистов, свободно владеющих двумя иностранными языками и современными педагогическими технологиями, а также обладающих глубокими знаниями в области теории педагогической науки и методики преподавания иностранных языков с использованием новых информационно-коммуникационных технологий.
Реализация модулей проходит в формате смешанного обучения, которое предполагает оптимальное сочетание традиционной аудиторной работы и дистанционного обучения в рамках виртуальной образовательной среды «Moodle» (подробнее о технологии реализации концепции смешанного обучения в рамках модуля «Профессионально-ориентированная коммуникация на втором иностранном (французском) языке» см. [8]).
Рассмотрим особенности оценочной деятельности преподавателя в рамках смешанного обучения на примере модуля «Лингводидактические проблемы в возрастной педагогике».
Основной особенностью оценочной деятельности преподавателя в рамках смешанного обучения в деятельностно- и компетентностно-ориентированной системе оценивания является разнообразие применяемых форм контроля.
С развитием дистанционного и смешанного обучения в западной методике преподавания появился термин «e-assessment» («электронное оценивание»). Этот термин, который часто ассоциируется исключительно с компьютеро-опосредованным тестированием, определяется как «процесс использования электронных устройств с целью составления, отправки, хранения и анализа заданий, ответов и оценок студентов» [9, р. 5]. Таким образом, помимо различных типов тестов, электронное оценивание может включать использование блогов и Wiki, социальных сетей и других технологий Web 2.0 для организации ролевых игр или создания виртуальных миров, где студенты с помощью аватаров действуют в смоделированных преподавателем ситуациях, требующих применения компетенций для решения профессионально-ориентированных проблем [ibid.].
Такие альтернативные формы оценивания имеют целый ряд преимуществ в сравнении с тестированием.
Во-первых, тестирование является однократно применяемым средством оценивания (выполнение того же теста второй раз не продуктивно), оно ограничено по времени и измеряет только уровень знаний студента в данный момент времени, а не его прогресс. Альтернативные формы оценивания в свою очередь позволяют оценить прогресс результатов обучения студента. Кроме того, опираясь на широко распространенную в западной методике преподавания таксономию Блума (таксономия педагогических целей, разработанная Б. Блумом в 1956 г.), исследователи отмечают, что тесты обеспечивают проверку низших уровней усвоения учебного материала (знание и применение), основанных на припоминании. В то же время альтернативные формы оценивания позволяют проверять более высокие уровни (анализ, синтез, оценка) [10, р. 15].
В модуле «Лингводидактические проблемы в возрастной педагогике», как и в других модулях, разработанных в рамках проекта «Темпус», в качестве альтернативных форм контроля предлагаются следующие: реферирование и синтез научной литературы по предложенной проблеме, подготовка презентаций и стендовых докладов, участие в дискуссиях, проектная работа, разработка дидактических материалов к урокам ИЯ. При этом вся предварительная работа и консультационно-методическая поддержка со стороны преподавателя обеспечиваются в формате дистанционного обучения с использованием таких инструментов виртуальной образовательной среды «Moodle», как форум, чат, элементы Wiki, Задание, База данных.
К примеру, при изучении темы «Дифференциация и инклюзия в обучении иностранному языку» студентам в качестве альтернативной формы оценивания предлагается организовать научную миниконференцию, посвященную способам адаптации процесса обучения ИЯ к потребностям обучающихся с психическими и физическими трудностями и патологиями обучения. С этой целью студенты выбирают интересующую их тематику из перечня предлагаемых на платформе «Moodle темы». Затем они осуществляют анализ научной литературы, предложенной преподавателем, и дополняют перечень источников самостоятельно. Вся подготовительная работа и консультационно-методическая поддержка осуществляется в дистанционном формате через платформу «Moodle». Оцениванию со стороны преподавателя и студентов подвергается финальное выступление обучающихся - доклад с презентацией.
Еще одним преимуществом электронного оценивания является возможность создания электронного портфолио студента. Виртуальная образовательная среда позволяет хранить большие массивы данных, содержащие отметки, полученные студентами в процессе учебной деятельности, собственно работы учащихся в виде текстовых и мультимедийных файлов [9, р. 7]. Такое портфолио позволяет проследить изменения в учебной деятельности студента и оценить развитие его профессиональных компетенций. В рамках дисциплины «Лингводидактические проблемы в возрастной педагогике» все оцененные работы студентов хранятся он-лайн в системе «Moodle» и могут просматриваться преподавателем в виде сводной таблицы с помощью элемента платформы «Оценки». В состав электронного портфолио студентов, помимо их презентаций, эссе и других документов, входят разрабатываемые ими фрагменты уроков, которые проходят апробацию в аудитории и процедуру оценивания.
В-третьих, оценивание традиционно рассматривается изолировано от учебного процесса, поскольку реализуется по окончании модуля/ семестра/ учебного года с целью проверки остаточных знаний студентов [11, р. 7]. В модулях, созданных по проекту «Тем-пус», оценивание представляет собой неотъемлемую часть учебного процесса, по принципу «оценивания в обучающих целях» (assessment for learning).
В рамках каждого раздела (юнита) преподаватель реализует два типа оценивания: текущее (formative assessment) и итоговое (summative assessment). Текущее оценивание в западной методике преподавания и рассматривается в качестве «оценивания в обучающих целях». Оно базируется на целом ряде принципов личностно ориентированного обучения:
- сообщение студентам цели обучения и результатов обучения, которых необходимо достичь;
- ознакомление студентов с требованиями профессиональных стандартов, на которые ориентируется преподаватель;
- вовлечение студентов в оценивание своих собственных результатов обучения (самооценивание);
- обеспечение обратной связи с советами и рекомендациями по преодолению выявленных трудностей обучения;
- ориентирующая и стимулирующая оценка, имеющая знаковое и эмоциональное выражение [12].
Преимущества использования текущего оценивания как дополнительного средства повышения мотивации объясняются следующими положениями:
- цель текущего оценивания - помочь студентам в идентификации своих сильных и слабых сторон в ходе формирования профессиональных компетенций, а не оценить текущий уровень знаний;
- полученная оценка не влияет на итоговую отметку за курс, что позволяет студентам чувствовать себя более свободно, не скрывая пробелов в знаниях и испытываемых трудностей [11, р. 8-9].
Рассмотрим некоторые примеры заданий, используемых для текущего оценивания в рамках модуля «Лингводидактические проблемы в возрастной педагогике». Целью первого урока является ознакомление с возрастными особенностями изучающих иностранный язык и формирование умений учета таких особенностей при проектировании процесса обучения иностранному языку. После ознакомления с научной литературой и другими источниками по проблеме в дистанционном формате и критической дискуссии в аудитории студентам предлагается написать эссе объемом 150-200 слов, которое впоследствии оценивается преподавателем через форму обратной связи на платформе «Moodle». Задание для эссе звучит следующим образом: «Проанализируйте учебники по иностранному языку одного уровня (к примеру А1) для разных возрастных групп по следующим параметрам: типы упражнений, наличие/отсутствие иллюстраций, объем и сложность текстов, лексико-грамматическое наполнение. Каким образом, на ваш взгляд, были учтены возрастные характеристики обучающихся одного уровня?».
Еще одним примером задания для текущего оценивания может служить участие студентов в дискуссии на форуме на платформе «Moodle». Студентам предлагается заполнить таблицу, отражающую отличия между процессом освоения родного языка, изучением иностранного языка с помощью традиционных и коммуникативных методик по ряду параметров, таких как вариативность используемых типов дискурса, участие носителя языка и т.д. Сообщения, оставленные на форуме, также оцениваются преподавателем с учетом активности участия студентов в обсуждении, релевантности их суждений для дискуссии, приемлемости выбираемых лексико-грамматических средств в рамках реализуемого типа дискурса.
Таким образом, текущее оценивание обеспечивает индивидуальный подход к работе каждого студента и позволяет оптимизировать процесс формирования профессиональных компетенций за счет своевременной обратной связи.
В свою очередь итоговое оценивание, предусмотренное в материалах проекта, было адаптировано к реалиям российской образовательной системы, в частности Воронежского государственного университета. Речь идет о создании Фондов оценочных средств и проведении текущей аттестации. В связи с этим определенные формы контроля реализуются два раза в течение семестра и оказывают непосредственное влияние на итоговую оценку студента за модуль. Таким образом, можно говорить о внедрении наряду с текущим оцениванием принципа непрерывной оценки (continuous assessment). В частности, в рамках консорциума проекта «Tempus De-TEL» было принято решение о введении единого трехуровневого тестирования по материалам модулей для всех вузов-участников проекта: входное, промежуточное и итоговое тестирование. Тестовые вопросы были разработаны в ходе семинаров, организованных европейскими университетами-парт-нерами: университет Астон (г. Бирмингем, Великобритания), университет Кан-Нормандия (г. Кан, Франция), Педагогический университет г. Фрайбурга (Германия). Именно эти тесты были включены в Фонды оценочных средств ВГУ в качестве текущей аттестации.
Однако, как отмечалось выше, тестовые формы контроля не позволяют адекватно оценить уровень сформированности всех компонентов профессиональной компетенции, а проверяют лишь знания. В этой связи в качестве второго компонента текущей аттестации студентам предлагается проектная работа (групповая или индивидуальная) по созданию плана урока и его методического обеспечения с учетом изученного материала. К примеру, в качестве первой текущей аттестации по модулю «Лигводи-дактические проблемы в возрастной педагогике» студентам предлагается разработать материалы для проведения урока по заданной преподавателем теме с учетом возрастных особенностей обучающихся в рамках коммуникативного подхода к изучению ИЯ. Защита проектов подразумевает презентацию результатов проекта с обоснованием выбора средств и методов обучения, а также типов заданий в зависимости от характеристик возрастной группы.
Четвертой отличительной чертой электронного оценивания в смешанном обучении становится обязательное наличие своевременной обратной связи. Она способствует реализации индивидуальной образовательной траектории за счет индивидуализированной обратной связи с учетом слабых сторон каждого студента, что не всегда бывает возможно в рамках традиционного обучения и фронтальной формы работы [13, р. 70]. Обратная связь является обязательным элементом электронного оценивания, поскольку дистанционный формат работы, в отличие от аудиторного, не позволяет осуществлять коррекцию непосредственно во время развертывания высказывания. Инструментами, позволяющими обеспечить обратную связь на платформе «Moodle», являются новостные форумы, чаты и внутренняя система отправки сообщений, а также заранее подготовленные подсказки и комментарии преподавателя, которые включены в процесс тестирования и появляются в зависимости от выбранного студентом ответа.
Наконец, особенностью оценивания в рамках анализируемого модуля является применение альтернативных стратегий оценивания, таких как взаимное оценивание студентами работ друг друга (peer assessment) и самооценивание (selfassessment). Взаимное оценивание подразумевает процесс, при котором обучающиеся анализируют качество продуктов или результатов обучения своих коллег-студентов. При этом оценивание может сопровождаться выставлением оценки (согласно заранее определенным критериям или без них) и/или сообщением о качестве работы коллеги. Такой тип оценивания способствует повышению мотивации и развитию автономии учебной деятельности, развивает квалиметрическую компетенцию преподавателя за счет понимания различных критериев оценивания, а также способствует развитию адекватной самооценки в рамках учебной деятельности. Однако, по мнению исследователей, наибольшую пользу взаимное оценивание приносит не тем студентам, чьи работы подвергаются оцениванию, а оценивающим студентам в ходе создания обратной связи [14, р. 98], поскольку такая практика позволяет развивать саморефлексию, объективное восприятие собственной и чужой учебной деятельности, мотивацию обучения.
Отметим, что оценивание студентами работ коллег осуществляется на основе заранее обозначенных критериев и проводится в формате сообщений на форуме «Moodle», в которых студент аргументирует балл, выставленный по каждому из критериев. Преподаватель в свою очередь следит за объективностью оценивания и обеспечивает уважительное отношение студентов друг к другу во избежание конфликтов.
Безусловно, внедрение компетентностно-ори-ентированной системы оценивания и электронного оценивания вызывает целый ряд трудностей. В первую очередь речь идет о высоком уровне владения информационной компетенцией. Она включает в себя умение использовать информационные технологии для решения многоуровневых задач, умение находить и эффективно обрабатывать релевантную информацию из разнообразных электронных ресурсов в различных форматах, а также владение способами представления информации средствами компьютерных технологий [15, р. 22-26]. Действительно, создание элементов ЭУМК на платформе «Moodle» (с использованием инструментов «Тест», «Задание», «Эссе» и др.), организация самостоятельной работы студентов и управление системой оценивания требуют высокого уровня владения информационной компетенцией (работа с текстовыми редакторами, интернетресурсами, базами данных и пр.).
Второй трудностью на пути внедрения компе-тентностного подхода к электронному оцениванию в рамках смешанного обучения является недостаточная степень мотивированности студентов. Сам факт применения электронных средств обучения и оценивания, в особенности текущего оценивания, может вызвать непонимание, чувство неудовлетворенности и даже отторжения у студентов с низким уровнем мотивации учебной деятельности. Решение проблемы в данном случае заключается в том, чтобы студенты осознали значимость предпринимаемых учебных действий. С этой целью возможна организация коротких лекций, посвященных разъяснению применяемой методики и технологий обучения, критериев оценивания, осуществление четкого инструктажа при выполнении заданий текущего и итогового контроля в формате как аудиторной, так и дистанционной работы, а также открытость преподавателя к вопросам и пояснениям [16, с. 86-95].
Третьим фактором, который может представлять трудности при внедрении электронного оценивания, являются временные затраты преподавателя на создание электронных тестов, отвечающих требованиям валидности; обработка больших массивов информации для составления глоссариев, баз данных интернет-ресурсов, необходимых для осуществления учебного процесса; создание критериев оценивания для различных видов деятельности в рамках курса.
Отметим также, что оценивание работ всех студентов в рамках текущего контроля и составление сообщений обратной связи значительно увеличивают нагрузку на преподавателя вне аудиторной работы. Поэтому, безусловно, внедрение электронных средств оценивания требует большой дисциплины и мотивации в первую очередь со стороны преподавателя.
Наконец, наибольшую трудность, на наш взгляд, представляет преодоление субъективности оценивания. Безусловно, эта проблема не нова, она стоит и перед традиционной системой оценивания.
Многие исследователи выделяют ряд параметров процесса оценивания, которые могут повлиять на объективность преподавателя независимо от подробности предлагаемых критериев оценивания:
- эффект Пигмалиона: в зависимости от ожиданий, которые преподаватель испытывает в отношении студента, он бессознательно может создавать благоприятные или неблагоприятные условия для обучения и оценивания;
- эффект стереотипа: на преподавателя оказывает влияние образ студента в зависимости от отношений, которые сложились между преподавателем и студентом в ходе учебной деятельности;
- образ преподавателя: образ, который преподаватель хочет сформировать у студентов и коллег о себе, также может оказывать влияние на оценки («добрый» и «злой» преподаватель);
- усталость: оценивание первой и последней работы может значительно отличаться в силу усталости, поскольку концентрация и терпимость к ошибкам снижаются;
- эффект порядка оценивания и контраста: преподаватели часто сравнивают работы студентов между собой, вследствие чего работа более слабого студента, оцениваемая после работы сильного студента, может получить более низкую оценку, хотя, если бы оценивание осуществлялось в другом порядке, оценка могла бы быть выше;
- эффект взаимовлияния: преподаватели, обсуждая студентов, могут высказывать положительное или отрицательное мнение о них. Поэтому точка зрения, высказанная коллегой, созданный им образ студента может оказывать влияние на преподавателя в процессе оценивания;
- эффект «ореола»: студент, который выглядит опрятно, говорит правильно и свободно, пишет без ошибок и имеет хороший почерк, уверен в себе, может получить более высокую оценку [17, р. 8].
Очевидно, что все вышеперечисленные факторы имеют субъективный характер, и их нейтрализация зависит, прежде всего, от осведомленности преподавателя об их существовании и его сознательного стремления к их преодолению. Вместе с тем электронное оценивание, на наш взгляд, имеет большую объективность за счет следующих особенностей:
- возможность регулирования длительности выполнения тестовых заданий и альтернативных форм оценивания, а также ограничения доступа к ним со стороны студентов (тест может быть выполнен, а задание может быть сдано только в обозначенный преподавателем промежуток времени);
- возможность объективного снижения оценки на заранее заданное количество процентов при повторном выполнении задания или теста (осуществляется системой, а не преподавателем, что позволит избежать, к примеру, «эффекта стереотипа» и «эффекта ореола»: завышения оценки студентам, с которыми у преподавателя сложились хорошие отношения и которые производят хорошее общее впечатление);
- возможность оценивания студенческих работ дома в удобное для преподавателя время, что позволит избежать «эффекта усталости»;
- возможность оценивания работ в порядке, предлагаемом компьютером, что частично нейтрализует «эффект порядка оценивания и контраста»;
- необходимость создания комментария обратной связи с рекомендациями и обоснованием оценки студента, редактирование такого комментария через некоторое время позволяет преподавателю более внимательно и рационально подойти к выставлению отметки;
- выполнение студентами работ дома в комфортной для них обстановке и одновременное, общее для всех участников ограничение выполнения работы по времени, обеспечиваемое системой, ставят студентов в равные условия при оценивании, что позволяет нейтрализовать «эффект Пигмалиона».
Помимо этого, объективность оценивания может обеспечиваться за счет создания сетки детализированных критериев оценивания (англ. «rubric», франц. «grille devaluation»). Они в значительной мере обеспечивают объективность оценочной деятельности за счет подробного описания каждого критерия и их соотнесения с проверяемыми компетенциями и результатами обучения. Таким образом, независимо от проверяющего оценка студента остается практически неизменной [18, р. 15]. Кроме того, такие сетки критериев позволяют обеспечить преемственность и валидность оценивания из года в год, что позволяет сравнить достижения студентов разных лет [19, p. 59].
В рамках проекта «Темпус» разработка единых критериев оценивания оказалась затруднительной в связи с различиями требований государственных образовательных стандартов России, Украины и Узбекистана и отличиями в перечнях формируемых компетенций. Вместе с тем сетки критериев оценивания для модулей создавались с использованием образцов критериев, предоставленных координатором проекта «Tempus DeTEL» Сьюзен Гартон и экспертами университета Астон (г. Бирмингем, Великобритания), имеющего более чем двадцатилетний опыт электронного оценивания в формате смешанного обучения. Кроме того, свои образцы критериев оценивания представили коллеги из Ярославского государственного педагогического университета, а также Самаркандского государственного института иностранных языков (г. Самарканд, Узбекистан) и Узбекского государственного университета мировых языков (г. Ташкент, Узбекистан). Все модули, разработанные в рамках проекта «Темпус», вписываются в концепцию предметно-языкового интегрированного обучения (Content-Language Oriented Learning), которое подразумевает «изучение нового о чем-то, а не нового о языке» [10], то есть обсуждение профессионально-ориентированной тематики на иностранном языке на основе аутентичных текстов. Хотя обучение в рамках модуля ведется на английском языке, в расчет принимались и критерии оценивания, используемые для оценивания компонентов коммуникативной компетенции международных экзаменов по французскому языку DELF B2 и DALF C1.
Опыт проведенной работы подтверждает, что внедрение компетентностно-ориентированной системы электронного оценивания требует значительной предварительной подготовки и высокой мотивации профессиональной деятельности со стороны преподавателя. Вместе с тем такое оценивание позволяет решать важнейшие задачи в подготовке будущих преподавателей иностранного языка, а именно:
- обеспечивать прозрачное критериально обоснованное оценивание, сопровождающееся своевременной обратной связью, которое способствует повышению сознательного отношения студентов к процессу обучения и мотивации учебной деятельности;
- развивать оценочную (квалиметрическую) компетенцию преподавателя за счет внедрения самооценивания и рефлексии при написании комментариев обратной связи в процессе взаимного оценивания;
- внедрять альтернативные формы оценивания со сложным результатом, которые позволяют оценивать сформированность сложных общенаучных и профессиональных компетенций (анализ, синтез, оценка) и прогресс учебных результатов студентов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Караваева, Е.Б. Принципы оценивания уровня освоения компетенций по образовательным программам ВПО в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения [Текст] / Е.Б. Караваева, В.А. Богословский, Д.В.Харитонов // Вестник Челябинского государственного университета. Сер. Философия. Социология. Культурология. - 2009. - № 18(156). - Вып. 12. - С. 155-162.
2. Рябова, Н.В. Создание фонда оценочных средств для контроля качества подготовки будущих педагогов [Электронный ресурс] / Н.В. Рябова, Т.А. Наумова // Гуманизация образования : научно-практический журнал. - 2014. - № 4. - С. 72-78. - (http://elibrary.ru/download/22379891).
3. Капшутарь, М.А. Модернизация образования и контрольно-оценочная деятельность педагога [Электронный ресурс] / М.А. Капшутарь // Историко-педагогические чтения. - 2004. - №8. - С. 310-312. -(http://elibrary.ru/download/28440225).
4. Бутакова, С.М. Оценочная деятельность педагога и студентов как условие формирования познавательной мотивации в процессе профессиональной подготовки в вузе [Электронный ресурс] / С.М. Бутакова // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева. - 2006. - №2. - С. 174-177. - (http://elibrary.ru/download/21451547).
5. Панюшкина, М.А. Проблема обучения будущих педагогов оцениванию [Электронный ресурс] / М.А. Панюшкина // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. - 2015. - Вып. 11. - С. 121128. - (http://elibrary.ru/download/93465554).
6. Профессиональный стандарт педагога. 2015 [Электронный ресурс]. - (Ы^р://минобрнауки.рф/).
7. Прилипко, Е.В. Аксиологический компонент оценочной компетенции преподавателя иностранного языка
[Электронный ресурс] / Е.В. Прилипко // Аксиология иноязычного образования : в 2 кн. Кн. 2. Аксиологические аспекты иноязычной подготовки в вузе. - М. : АПКиППРО, 2015. - С. 207-211. -
(http://elibrary.ru/download/84752023).
8. Фененко, Н.А. Технология смешанного обучения иностранному языку: сущность и принципы реализации [Текст] / Н.А. Фененко, С.Ю. Булгакова // Научный Вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Сер. Современные лингвистические и методико-дидактические исследования. - 2016. - №1(29). - С. 82-91.
9. Crisp, G. Teacher’s Handbook on e-Assessment [Electronic resources] / G. Crisp. - Australia : Transforming Assessment, 2011. - 24 p. - (https://www.dkit.ie/system/files/).
10. Dikli, S. Assessment at a distance: Traditional vs. Alternative Assessments [Electronic resources] / S. Dikli // The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET. - July 2003. - Issue 3. - P. 13-19. -(http://www.tojet.net/articles/v2i3/232).
11. O’Farell, C. Enhancing Student Learning through Assessment: a Toolkit Approach [Electronic resources] / C. O’Farell. - (http://www.tcd.ie/teaching-learning/academic-development/assets/pdf/).
12. Assessment for Learning (AFL) - Key principles [Electronic resources]. -
(http://www.ncca.ie/en/Curriculum_and_Assessment/PostPrimry_Education/Junior_Cycle/Assessment_for_Le arning_AfL_/Key_principles /AfL_-_Key_principles.html).
13. Sejdiu, S. English language teaching and assessment in blended learning [Electronic resources] / S. Sejdiu // Journal of Teaching and Learning with Technology. - Vol. 3. - No. 2, December 2014. - P. 67-82. -(http://jotlt.indiana.edu/article/download/5043/19707).
14. Jordan, S. E-assessment: past, present and future [Electronic resources] / S. Jordan // New Directions. - Vol. 9. - Issue 1. - October 2013. - P. 87-106. - (https://www.heacademy.ac.uk/system/files/ndir.9.1j_1).
15. enGauge 21st Century Skills: Literacy in the Digital Age [Electronic resources] / G. Burkhardt [и др.]. - U.S. : Institute of Education Sciences, 2003. - 85 p. - (http://pict.sdsu.edu/engauge21st).
16. Крылова, М.Н. Способы мотивации учебной деятельности студентов в вузе [Электронный ресурс] /
М.Н. Крылова // Перспективы науки и образования. - 2013. - №3. - С. 86-95. -
(http://cyberleninka.ru/article/n/sposoby-motivatsii-uchebnoy-deyatelnosti-studentov-vuza-1).
17. Swinnen, L. Difficultes lors de revaluation. Travail integre rйalisй en vue de l’obtention de l’attestation CAPAES Informatique [Electronic resources] / L. Swinnen. - 2006. - 29 р. - (https://www.louis-swinnen.be/files/capaes-public).
18. Audet, L. Les pratiques et dйfis de revaluation en ligne [Electronic resources] / L. Audet. - Canada : REFAD, 2011. - 109 p. - (http://archives.refad.ca/evaluation_en_ligne).
19. Next Generation Assessment: Moving Beyond the Bubble Test to Support 21st Century Learning [Electronic
resources] / Ed. by L. Darling-Hammond. - Jossey Bass. A Willey Brand, 2014. - 133 p. -
(https://books.google.ru/books).
20. Вьюшкина, Е.Г. Опыт использования предметно-языкового интегрированного обучения в юридическом вузе [Электронный ресурс] / Е.Г. Вьюшкина // Научный Вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Сер. Современные лингвистические и методико-дидактические исследования. - 2015. - №2(26). - (http://elibrary.ru/item.asp?id=24253625).
УДК 378.6
Военный учебно-научный центр ВВС
«Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж
АННОТАЦИЯ. Раскрыты и обоснованы структурно-содержательные характеристики проектировочной компетенции офицера-преподавателя. Конкретизировано содержание мотивационно-ценностного, когнитивно-операционального, личностно-конативного компонентов проектировочной компетенции; дана характеристика ее критериев и показателей — направленность офицера-преподавателя на профессиональную военно-педагогическую деятельность (познавательная активность, ценности проектировочной деятельности, стремление к достижениям в профессии); готовность к реализации проектировочной деятельности (проектировочно-аналитические, проектировочно-моделирующие, проектировочно-организационные знания, умения, навыки); профессиональная ответственность (инновационность, способность к самоорганизации и профессиональная мобильность).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: проектировочная компетенция офицера-преподавателя, структурные компоненты, критерии и показатели проектировочной компетенции.
Russian Air Force Military Educational and Scientific Center
“Air Force Academy named after Professor N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin”
(Voronezh)
ABSTRACT. The article reveals and substantiates structural and content characteristics of design competence of a military officer-teacher. The contents of motivational-valuable, cognitive-operational, personal and cognitive components of design competence are specified. The author characterises the competence’s criteria and indicators: military officer-teacher's focus on professional military-pedagogical activity (cognitive activity, values of design activities, desire to achieve in the profession); willingness of the military officer-teacher to implement the engineering design activities (design analysis, design-modeling, design-organizational knowledge, abilities, skills); professional responsibility of the officer-teacher (innovation, ability to self-organization and professional
mobility)
KEY WORDS: design competence of the officer-teacher, competence.
Анализ источников и практической деятельности показывает, что в современных условиях преподавателям военного вуза приходится решать комплекс задач аналитического, исследовательского, проектировочного и управленческого содержания. Поиск инновационных ресурсов повышения качества образования в военном вузе обращает наше внимание на доминирующие виды деятельности офицера-преподавателя, среди которых проектировочная деятельность представляется нам наиболее актуальной, перспективной и лично-стно значимой.
Сегодня преподаватель должен обладать высоким уровнем компетентности и компетенции в области проектировочной деятельности, которая проявляется в готовности к участию в проектах различного уровня, умении осуществлять проектную деятельность, в применении навыков по составлению плана, овладении технологиями целеполага-ния, проектирования образовательных программ, информационно-образовательных технологий и контекста педагогической деятельности и т.д. [3; 6].
structural components, criteria and indicators of design
Мы рассматриваем проектировочную компетенцию офицера-преподавателя как системное образование, состоящее из множества согласованных ком-понентов/элементов, обладающих собственными характеристиками, раскрывающими его уровень как единое основание, интегрирующее не только актуальные, но и потенциальные, нереализованные возможности, совершенствование и преобразование которых многовариантно и эффективно при определенных психолого-педагогических условиях. Естественное состояние, способ существования компо-нентов/элементов проектировочной компетенции -развитие (прогресс/регресс), движение его оснований; возникновение, становление и преобразование новых показателей; сменность детерминант, многообразие источников, движущих сил, путей разрешения противоречий между разными показателями, факторами, уровнями и т.п. [1].
Учитывая метадеятельностный, интегративный характер проектировочной компетенции, её основные характеристики, а также придерживаясь идей ученых о компонентах проектировочной компетенции и идей системного подхода о том, что под
Информация для связи с автором: vvov67@mail.ru
«структурой понимается совокупность не всех, а лишь некоторых компонентов, связей, отношений, элементов, определяющих качество этой системы» [4; 5], мы считаем целесообразным определить
структурные составляющие проектировочной компетенции офицера-преподавателя как три взаимосвязанных и взаимообусловленных компонента -мотивационно-ценностный, когнитивно-операциональный и личностно-конативный (поведенческий). Охарактеризуем каждый компонент, его критерии и показатели.
Мотивационно-ценностный компонент в структуре проектировочной компетенции определяет особенности профессиональной направленности личности офицера-преподавателя в педагогической деятельности, побуждаемой профессиональными мотивами и регулируемой профессионально-значимыми ориентирами, нормами, эталонами. Критерием функционирования мотивационно-ценностного компонента может выступать сформированная направленность офицера-преподавателя на профессиональную военно-педагогическую деятельность. Данный критерий в свою очередь может быть оценен по следующим показателям: познавательная актив
ность, ценности проектировочной деятельности, стремление к достижениям в профессии.
Познавательную активность мы рассматриваем как стремление офицера-преподавателя к учению, умственному напряжению и проявлению волевых усилий в процессе овладения знаниями. Познавательная активность побуждается личностной потребностью преподавателя в успешной профессионально-педагогической деятельности и отношением к ней - позитивным либо негативным (В.Н. Мясищев). Познавательная активность проявляется в инициативе преподавателя, направленной на самореализацию в профессии. Ценности проектировочной деятельности раскрываются в системе ценностных ориентаций личности преподавателя. Это система когнитивно-эмоционально-волевых компонентов, выступающих в качестве его внутреннего ориентира, побуждающего и направляющего его проектировочную деятельность. Речь идет об индивидуальной концепции смысла профессиональной военно-педагогической деятельности; о представлениях, о технологиях построения учебно-воспитательного процесса в академии; о специфике взаимодействия с курсантами; о представлении о себе как профессионале и т.п. Стремление к достижениям в профессии - это стремление преподавателя к улучшению своих профессиональных результатов, неудовлетворенность достигнутым, настойчивость в достижении целей, стремление добиться успеха. Проявляется это стремление в том, что преподаватель ищет ситуации достижения, уверен в успешности исхода, берет на себя ответственность, проявляет настойчивость, упорство в достижении цели, в преодолении трудностей, получает удовольствие от решения интересных педагогических задач, в том числе в сфере проектирования.
Когнитивно-операциональный компонент проектировочной компетенции офицера-преподавателя включает в себя систему представлений знаний о сущности, характере, структуре как о педагогической деятельности по решению конкретных образовательных задач в целом, так и о проектировочной деятельности в частности, и является базовой основой для профессионального развития в рамках разработки проектов. Он характеризуется освоением комплекса проектировочных умений, связанных с анализом актуальной образовательной ситуации военного вуза, обеспечивает прогноз, создание и реализацию проекта в практической деятельности офицера-преподавателя. Компонент включает способы умственных действий или мыслительные, логические операции, а также способы проектной деятельности: общепедагогические, проектные, технологические.
В качестве критерия сформированности данного компонента выступает готовность офицера-преподавателя к реализации проектировочной деятельности. Следовательно, основными ее показателями могут являться: проектировочно-аналитические
зуны (анализировать проблему, диагностично ставить военно-учебные цели, переводить их в конкретные военно-педагогические задачи), проектировочно-моделирующие зуны (моделировать виды военно-учебной деятельности курсантов, разрабатывать структуру и содержание военно-учебного занятия, моделировать контекст военно-профессиональной деятельности), проектировочно-организационные зуны (организовывать оптимальное сочетание содержания, форм, методов и средств военноучебной деятельности курсантов, обеспечивать систему контроля обучения, проектировать и организовывать сотрудничество в воинском коллективе).
Личностно-конативный (поведенческий) компонент в структуре проектировочной компетенции определяет возможность саморегуляции преподавателя, его способность принимать решения самостоятельно, управлять своим поведением, отвечать за свои поступки. Его критерием выступает профессиональная ответственность офицера-преподавателя, которая определяет отношение и некоторые личностные особенности, характеризующие поведение преподавателя в военной профессионально-педагогической деятельности, включая проектировочную, а также взаимоотношения в воинском коллективе.
Профессиональная ответственность проявляется в таких личностных качествах, как инновационность, способность к самоорганизации и профессиональная мобильность, которые в исследовании рассмотрены в качестве ее показателей. Инновационность мы понимаем как открытость преподавателя новым формам педагогического опыта; как творче-ски-преобразующий подход к проведению занятий, использование активных, интерактивных методов обучения. Это способность преподавателя осуществлять реконструкцию и обогащать профессиональнопедагогическую, включая проектировочную, деятельность новым творческим вкладом [2]. Способность к самоорганизации раскрывается в умении преподавателя регулировать и упорядочивать собственные психические, личностные состояния, качества, свойства, поведение. Это создание преподавателем собственной индивидуально-оптимальной личностной системы проектировочной деятельности. Применительно к обозначенной нами проблеме, профессиональная мобильность может быть определена как интегративная, целостная характеристика преподавателя как субъекта педагогической деятельности, обеспечивающая гибкую ориентацию в динамичных внутренних и внешних профессиональных условиях. Профессиональная мобильность офицера-преподавателя проявляется в виде его личностных характеристик и особых форм профессионального поведения - креативности, склонности к постоянному самосовершенствованию и самоактуализации, способность рисковать, проявлять инициативу, предприимчивости и т.д., что отражается в ситуации смены условий и самой профессионально-педагогической деятельности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Абдалина, Л.В. Профессионализм педагога: психолого-акмеологическая модель развития в системе повышения квалификации : учебное пособие [Текст] / Л.В. Абдалина; под ред. Л.В. Абдалиной. - Воронеж : ЦНТИ, 2010. - 208 с.
2. Абдалина, Л.В. Основные характеристики инновационного потенциала личности современного специалиста [Текст] / Л.В. Абдалина // Вестник Воронежского государственного технического университета. -2013. - Т. 9. - № 3-2. - С. 131-133.
3. Бережная, И.Ф. Проектировочная деятельность преподавателя высшей школы: к вопросу о содержании и структуре понятия [Текст] / И.Ф. Бережная // Воспитательная деятельность вуза: инновационный подход : материалы Международной научно-практической конференции / под ред. И.Ф. Бережной, С.В. Поповой.
- Воронеж, 2014. - Ч. 1. - С. 112-116.
4. Вьюнова, Н.И. Проектировочная компетентность преподавателя вуза: инвариантное и вариативное развитие : монография [Текст] / Н.И. Вьюнова; под общ. ред. Н.И. Вьюновой. - Воронеж : Воронежский ЦНТИ
- филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2015.
5. Кетриш, Е.В. Формирование проектировочной компетенции будущих педагогов в процессе непрерывной педагогической практики : автореф. ... дис. канд. пед. наук : 13.00.08 [Текст] / Е.В. Кетриш. - Екатеринбург, 2013. - 24 с.
6. Кривотулова, Е.В. Анализ отечественного опыта подготовки, переподготовки и развития проектировочной компетенции преподавателя вуза [Текст] / Е.В. Кривотулова // Вестник Воронежского государственного технического университета. - 2014. - № 3-2. - Т. 10. - С. 131-134.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЗНЕННОЙ СТРАТЕГИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
аспирант кафедры практической психологии,
Воронежский государственный педагогический университет
АННОТАЦИЯ. Обоснована актуальность исследования жизненной стратегии личности в период профессионального обучения. Проанализированы подходы к изучению психолого-педагогических условий. Определены психолого-педагогические условия формирования жизненной стратегии личности студента в образовательном процессе вуза.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: жизненная стратегия, условия формирования жизненной стратегии, психологопедагогические условия.
Postgraduate Student of the Department of Practical Psychology,
Voronezh State Pedagogical University
ABSTRACT. The author substantiates the topicality of the research of a person’s life strategies in the period of professional training. Approaches to the study of psychological and pedagogical conditions are analyzed. Psychological and pedagogical conditions for a student personality’s life strategies formation in the university educational process are determined.
KEY WORDS: life strategies, conditions for life strategies formation, psychological and pedagogical conditions.
В современном российском обществе нарастает необходимость в квалифицированных специалистах, формирование и развитие которых совершается на этапе обучения в вузе. Данная потребность общества устанавливает повышенные требования к становлению и развитию конкретной личности, которая стремится к самосовершенствованию и профессиональному самоопределению. В формировании личности студента огромная доля ответственности предъявляется к высшим образовательным учреждениям, так как они способствуют подготовке будущих специалистов, опираясь при этом на требования, предъявляемые обществом. Отметим, что устанавливаемые обществом требования к личности будущего специалиста относятся как к развитию профессионализма, так и к становлению качеств личности. Исходя из этого, предполагается, что у студентов в период обучения в вузах должны быть развиты как нужные для профессиональной деятельности умения и навыки, так и базовые жизненные стратегии, которые будут определять их дальнейший профессиональный путь.
Первостепенным фактором успешной социализации является осознание студентом собственного выбора жизненной стратегии, а также понимание важности профессионального и личностного саморазвития и самосовершенствования. Необходимые представления о жизненных ценностях закладываются на этапе обучения в вузе, на их основе личностью выстраивается жизненное самоопределение, формируется представление о себе как о полноправном члене общества, происходит понимание своих возможностей, появляется осознанное представление будущего жизненного пути. Исходя из данного обстоятельства, отметим, что осознание планов будущей профессиональной жизни и формирование жизненных стратегий становится особенно актуальным непосредственно в процессе обучения в вузе. Под жизненной стратегией нами понимается выстроенная система ценностей и жизненных целей, развернутая во временной перспективе психологического будущего [1].
Формирование жизненных стратегий представляет собой сложный и многогранный процесс, который предполагает создание специальных психологопедагогических условий. В данном контексте значимым является рассмотрение комплекса психолого-педагогических условий, обеспечивающего формирование жизненной стратегии личности студента.
В справочной литературе категория «условие» понимается как:
1) обстоятельство, от которого что-то зависит;
2) правила, которые установлены в какой-нибудь сфере жизнедеятельности;
3) обстановка, в которой что-то происходит [2, с. 588].
Философский подход к определению приведенного понятия связывает его с отношением предмета к окружающим его явлениям, без которых существование предмета не возможно: «...то, от чего зависит что-то другое (обусловливаемое); сущностный компонент комплекса объектов (вещей, состояний, взаимодействий), из наличия которых с необходимостью следует существование данного явления» [3,
Информация для связи с автором: anisimova_75@mail.ru
с. 707]. То есть совокупность конкретных условий определенного явления способствует созданию среды, в которой он появляется, протекает, существует и развивается.
Понятие «условие» в психологии чаще всего авторы представляют с позиции психического развития и раскрывают относительно системы внутренних и внешних причин, которые определяют психологическое развитие индивида и способствуют ускорению или замедлению его развития, влияют на динамику развития и конечный результат [4].
В педагогике придерживаются схожих с психологией взглядов. В частности, педагоги рассматривают условие с точки зрения совокупности переменных: внешние, внутренние, природные и социальные. Также с позиции воздействий, которые влияют на физический, нравственный, психический рост человека, становление его личности, изменение поведения, воспитания и обучения (В.М. Полонский) [5, с. 36].
Отметим, что понятие «условие» имеет общенаучный характер, сущность которого в психологопедагогическом контексте можно охарактеризовать следующими положениями:
1. Условием выступает совокупность обстоятельств, объектов или различных причин.
2. Указанная совокупность влияет на воспитание, обучение и развитие личности.
3. Отмеченное влияние условий способствует ускорению или замедлению процессов развития, воспитания и обучения, а также воздействует на их динамику и конечный результат.
В современных исследованиях довольно широко понятие «условие» применяется в ходе описания сущности педагогических систем. При этом исследователи с опорой на различные признаки выделяют разные группы условий.
Ю.К. Бабанский указывает на две группы условий, которые выделяет, исходя из сферы воздействия:
- внешние (культурные, общественные, географические);
- внутренние (школьные, психологические, моральные, эстетические) [6].
По характеру воздействия авторами выделяются объективные и субъективные условия.
Объективные условия способны обеспечивать функционирование педагогических систем. В данные условия включена нормативно-правовая база сферы образования и средства информации, они являются причиной, побуждающей участников образования к самостоятельности в ходе обучения. Объективные условия подвергаются изменениям.
Субъективные условия оказывают влияние на деятельность и развитие педагогических систем, указывают на потенциал субъектов педагогической деятельности, уровень системности их действий, степень личностной значимости целей и приоритетов, а также основных задач обучения и воспитания.
По специфике объекта воздействия выделяются общие и специфические условия, способствующие функционированию и развитию педагогических систем.
К общим условиям относятся экономические, социальные, культурные, национальные, географические и проч. К специфическим можно отнести -социально-демографический состав обучаемых, расположение учреждения образования, материальную базу учреждения образования, имеющееся оборудование учебно-воспитательного процесса и воспитательные возможности окружающей среды.
Первостепенную роль в ходе определения направления развития педагогических систем играет учет пространственных условий, в которых существуют эти педагогические системы, поскольку ее функционирование определяется спецификой региональных условий, особенностями образовательного заведения, конкретной педагогической средой, непосредственным уровнем квалификации педагогических кадров, степенью оснащенности необходимым оборудованием образовательного процесса. В научных исследованиях необходимость учета пространственных условий, описывающих среду реализации педагогического процесса, обусловлена применением принципа единства общего, единичного и особенного.
Установление разных групп условий, обеспечивающих функционирование и развитие педагогических систем, является довольно обоснованным, однако важно отметить, что при реализации научного анализа любой педагогической системы или непосредственного аспекта целостного педагогического процесса нужно применять близкие по характеру группы условий, выделяемые по какому-нибудь непосредственному признаку.
Раскроем специфику понятия «психолого-педагогические условия».
Н.М. Борытко в своей работе «Методология психолого-педагогических исследований» под условиями понимает «внешнее, так или иначе сознательно созданное педагогом обстоятельство, существенно влияющее на протекание процесса, которое предполагает, но не гарантирует конкретный результат» [6, с. 122]. Данная категория в современных психолого-педагогических трудах встречается часто, но интерпретируется по-разному.
В частности, Л.М. Репета, ссылаясь на В.И. Андреева, указывает, что «психолого-педагогические условия являются результатом систематического отбора, констатирования и использования элементов содержания, приемов, организационных форм обучения для достижения дидактических целей» [6].
Анализ работ Н.В. Журавской, Е.А. Лисина, А.В. Лысенко и др. [8; 9; 10] показал, что психологопедагогические условия рассматриваются исследователями «как условия, обеспечивающие конкретные педагогические меры воздействия на становление личности субъектов или объектов педагогического процесса, что в свою очередь влечет увеличение эффективности образовательного процесса».
Результаты исследований указанных авторов говорят о том, что при реализации психологопедагогических условий последние обладают следующими признаками:
- совокупность возможностей образовательной и материально-пространственной среды, способствующих увеличению эффективности целостного педагогического процесса;
- совокупность мер оказываемого влияния, характеризуемого как психолого-педагогические условия, которые направлены на становление личности субъекта педагогических систем и обеспечивают эффективное решение задач целостного педагогического процесса;
- организация мер педагогического взаимодействия, обеспечивающих модернизацию непосредственных характеристик развития, воспитания и обучения личности, то есть воздействие на личностный контекст в педагогических системах;
- совокупность психолого-педагогических условий предусматривает учет структуры изменяемой личностной особенности субъекта педагогического процесса.
Обобщая анализ научных подходов к понятию «психолого-педагогические условия», опираясь на мысль Н. Ипполитовой и Н. Стерховой, раскроем сущностную сторону данного термина. Психологопедагогические условия есть совокупность целенаправленно сконструированных взаимосвязанных и взаимообусловленных возможностей образовательной и материально-пространственной среды, которые направлены на развитие личностного аспекта педагогической системы [11].
Анализ подходов к рассмотрению сущности феномена психолого-педагогических условий позволил нам определить комплекс условий, которые направлены на формирование жизненных стратегий личности студентов в образовательном процессе вуза. Психолого-педагогическими условиями формирования жизненных стратегий личности студентов выступают:
- реализация психолого-педагогической модели, направленной на формирование жизненной стратегии личности студента;
- актуализация механизмов формирования жизненной стратегии личности студента в учебнопрофессиональной деятельности;
- развитие ценностно-смысловой сферы личности студента в учебно-профессиональной деятельности;
- осознание студентами ценностей жизни.
Реализация психолого-педагогической модели
выступает центральным условием, позволяющим проследить процесс формирования жизненной стратегии личности студента в учебно-профессиональной деятельности. Данная модель включает в себя несколько основных компонентов:
- модель базируется на теоретико-методологических подходах к процессу формирования жизненной стратегии личности, содержит в себе принципы, средства и компоненты формирования, а также критерии и уровни их сформированности;
- этапы формирования жизненной стратегии личности студента затрагивают уровень профессионального и личностного развития;
- компонентами формирования жизненной стратегии личности студента выступают: ценностный, способствующий развитию системы ценностных ориентаций; духовный, отвечающий за духовную сферу; смысловой, придающий смысл и формирующий взгляды построения линии жизни; мотивационный, дающий возможность увидеть потребность построения жизненной стратегии, определить мотивы необходимости выстраивания своей жизненной позиции; эмоциональный, придающий личностный смысл и включенность в процесс построения жизненной стратегии; волевой, дающий возможность достижения поставленных целей, актуализации саморегуляции и саморазвития;
- реализация модели способствует дальнейшему развитию и совершенствованию как в профессиональном, так и в личностном плане.
Важным условием выступает актуализация механизмов формирования жизненной стратегии личности студента в учебно-профессиональной деятельности. В рассмотрении данного вопроса особенно важно понимание механизмов формирования жизненной стратегии, поскольку оно происходит в период социальных перемен, которые приводят к широкому спектру понимания конкретной личностью предъявляемых к ней обществом требований. При этом каждый человек в свою очередь обладает собственными потребностями, желаниями, намерениями. Соответственно, степень интеграции жизненных требований с личностными потребностями, ценностями отражает жизненную стратегию личности. Данная интеграция способна реализовываться в различных вариантах, что отражает определенный тип жизненной стратегии.
Среди механизмов формирования жизненных стратегий можно выделить механизм самоидентификации, механизм целеполагания, механизм идентификации, механизм индивидуализации, механизм адаптации:
- механизм самоидентификации заключается в осознании личностью собственной ценности;
- механизм целеполагания включает в себя определенную систему смыслов и ценностей, а также смысложизенных ориентаций;
- механизм индентификации представляет собой соотнесение личности к референтным типам жизненных стратегий, которые сложились в данном социокультурном и историческом пространстве общества;
- механизм индивидуализации в свою очередь определяет индивидуальность и неповторимость жизненной стратегии личности [12].
В качестве следующего условия выступает развитие ценностно-смысловой сферы личности студентов в учебно-профессиональной деятельности.
С точки зрения Д.А. Леонтьева, смысловая сфера личности, которая базируется на понятии личностного смысла, представляет собой первостепенную подструктуру личности: «Смысловая сфера личности - своеобразным образом организованная совокупность смысловых образований, имеющих между собой связи, которые наполняют смысловой регуляцией целостную жизнедеятельность субъекта во всех ее сферах. В своей основе личность является целостной системой смысловой регуляции жизнедеятельности, которая реализуется через определенные смысловые структуры, процессы и системы, а также через логику жизненной необходимости в широком диапазоне проявлений человека как субъекта жизнедеятельности» [13, с. 154].
Итак, смысл жизни можно представить как ценность с одновременным переживанием данной ценности личностью в процессе ее выбора и присвоения. При этом смысл жизни - это не только стремление к достижению выбранной ценности, не только поставленная цель, движимая мотивом, но вместе с тем это переживание, сопровождающее человека в процессе реализации данного мотива. Личностный смысл представляет собой один из компонентов динамической смысловой системы, это личностное отражение действительности, которое выражает отношение личности к тем явлениям, ради которых он осуществляет свою деятельность. Первостепенной особенностью ценностно-смысловых отношений выступает их производность от занимаемого человеком места в обществе, от его социальной позиции и ряда возможных мотивов деятельности, которые задаются исходя из его социальной позиции.
Последним условием является осознание студентом ценностей жизни, что определяет формирование жизненных стратегий. Среди конкретных жизненных ценностей можно отметить такие ценности, как любовь, здоровье, счастливая семейная жизнь, личностный рост и саморазвитие, социальный успех, материальное благополучие, межличностное общение и другие. В зависимости от выбора ценностей своей жизни студент будет определять жизненную стратегию.
Таким образом, формирование жизненных стратегий начинается с закладывания их отдельных компонентов, которые на первых этапах еще очень подвижны и изменчивы. Впоследствии, по мере того как личность познает себя, ее жизненные ориентиры приобретают всё более оформленный и определенный вид, становятся более адаптированными и гибкими к динамичным изменениям. Процесс формирования жизненных стратегий находится в тесной взаимосвязи с процессом выявления жизненных перспектив социального окружения личности и определением ценностей жизни. Это может происходить как стихийно, так и целенаправленно. При формировании жизненной стратегии индивид обращает внимание не только на личностный смысл, определяемый им самостоятельно, но и на социальный, который закладывается в процессе культурной эволюции. При этом личностный смысл носит уникальную ценностную и эмоциональную окраску. Предполагаем, что учет выделенного нами комплекса условий предоставит возможность для создания эффективного педагогического процесса, направленного на формирование жизненных стратегий студентов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Анисимова, Т.И. Психологическая сущность жизненной стратегии личности [Текст] / Т.И. Анисимова // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. Проблемы высшего образования. - Воронеж, 2015. - №3. - С. 15-18.
2. Ожегов, С.И. Словарь русского языка: ок. 53000 слов [Текст] / С.И. Ожегов; под общ. ред. Л.И. Скворцова. - 24-е изд., испр. - М. : Оникс; Мир и образование, 2007. - 640 с.
3. Философский энциклопедический словарь [Текст] / под ред. Л.Ф. Ильичев [и др.]. - М. : Сов. энциклопедия, 1983. - 840 с.
4. Немов, Р.С. Психология : словарь-справочник : в 2 ч. [Текст] / Р.С. Немов. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003.
- Ч. 2. - 352 с.
5. Полонский, В.М. Словарь по образованию и педагогике [Текст] / В.М. Полонский. - М. : Высш. шк. 2004.
- 512 с.
6. Педагогика [Текст] / под ред. Ю.К. Бабанского. - М. : Педагогика, 1988. - 432 с.
7. Борытко, Н.М. Категория пространства в современной теории воспитания [Текст] / Н.М. Борытко // Наука и образование. - 2003. - № 4.
8. Журавская, Н.В. Профессиональная подготовка специалистов пожарной безопасности в вузах нефтегазовой отрасли с использованием индивидуально-дифференцированного подхода : автореф. дис. ... канд. пед. наук [Текст] / Н.В. Журавская. - СПб., 2011. - 26 с.
9. Лисина, Е.А. Формирование жизненных стратегий студентов в период обучения в вузе [Текст] / Е.А. Лисина // Проблемы развития высшего образования в Российской Федерации на современном этапе материалы : материалы Международной научно-практической конференции / отв. ред. Е.В. Прысь. - Рязань, 2014. - С. 53-56.
10. Лысенко, А.В. Психолого-педагогические условия формирования профессионально-ценностных ориентаций будущего учителя музыки : дис. ... канд. пед. наук [Текст] / А.В. Лысенко. - Майкоп, 2005. - 203 с.
11. Ипполитова, Н. Анализ понятия «педагогические условия»: сущность, классификация [Текст] / Н. Ипполитова, Н. Стерхова // General and Professional Education. - 2012. - №1. - С. 8-14.
12. Анисимова, Т.И. Механизмы формирования жизненных стратегий личности студентов [Текст] / Т.И. Анисимова // Развитие личности как стратегия современной системы образования : материалы Международной научно-практической конференции. - 2016. - С. 265-268.
13. Леонтьев, Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности [Текст] /
Д.А. Леонтьев. - М. : СМЫСЛ, 2003. - 221 с.
ДИЗАЙН КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИСКУССТВОВЕДЕНИИ И ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
кандидат педагогических наук,
декан факультета искусств и художественного образования,
Воронежский государственный педагогический университет
АННОТАЦИЯ. Автор в контексте педагогического искусствоведения и художественного образования рассматривает феномен дизайна в системе подготовки бакалавра по направлению «Дизайн». Становление бакалавра-дизайнера как творческой личности в целостном педагогическом процессе является результатом влияния всех компонентов и связей образовательного процесса и их единства.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дизайн-образование, педагогическое искусствоведение, системно-деятельностный подход, творческий метод, дизайн-продукт.
Cand. Pedagog. Sci., Dean of the Faculty of Arts and Art Education,
Voronezh State Pedagogical University
ABSTRACT. The author, in the context of pedagogical art history and art education, considers the phenomenon of design as an object of study in the system of Design Bachelor Degree Program. A bachelor's in design training is meant to shape students as creative personalities in a holistic pedagogical process as a result of the influence of all components and connections of the educational process.
KEY WORDS: design education, pedagogical art history, system-activity approach, creative method, design product.
Проблема исследования определяется основными тенденциями педагогического искусствоведения, художественно- педагогического образования, научно-практической подготовкой будущих бакалавров-дизайнеров к творческой профессиональной деятельности, к самоопределению, саморегулировании, саморазвитию в сфере творческой дизайн-индустрии. На сегодняшний день дизайн оформился не только как направление в культуре, но и как самостоятельная профессия, как вид творческой деятельности, основанный на интеграции утилитарного и эстетического. Ведущей формой в массовых направлениях современной дизайн-деятельности является нестандартно мыслящий дизайнер, в работе которого творческая активность и индивидуальный стиль являются обязательными безусловным качествами.
Подготовка бакалавров по направлению «Дизайн» в вузах регламентируется Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, определяющим в качестве целей и результатов обучения формирование у выпускников общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, предполагающим решение задач в области предметно-пространственной и архитектурной среды, которые удовлетворяют утилитарные и эстетические потребности человека [1].
Методологической основой работы является системный и деятельностный подход, позволяющий рассматривать исследуемую проблему дизайн-образования в педагогическом искусствоведении и художественном образовании [2; 3; 4]. Педагогическое искусствоведение в исследовании понимается как теоретическая составляющая современной педагогики искусств и теории художественного образования, предметом которой является развитие художественно-творческого потенциала личности будущего ба-калавра-дизайнера.
Формирование дизайнера как творческой личности видится нам результатом влияния всех составляющих компонентов образовательного процесса (проектировочного, конструктивного, коммуникативного, организаторского и др.). В работе Е.П. Белозерцева принцип целостности «означает лад между целями, содержанием и технологией образования; между духовным, психическим и физическим развитием; между гуманитарными и естественнонаучными знаниями... различные звенья системы образования испытывают потребность друг в друге, стремятся навстречу друг другу, интегрируются» [5, с. 206-207]. В.А. Сластенин указывает что, «целостному педагогическому процессу присущи внутреннее единство составляющих его компонентов, их гармоническое взаимодействие» [6].
Проблемы современного образования дизайнера рассматриваются в трудах Ю.М. Бундиной, А.А. Вилковой, Н.В. Воронова, И.С. Каримовой, Е.Н. Ко-вешниковой, Н.А. Ковешниковой, Т.В. Матвеевой, Р.Ф. Мухутдинова, Л.А. Сафиной, А.В. Соловьевой, И.В. Тарабриной, И.Б. Торшиной, Л.М. Тух-батуллиной и др. Проанализировав все возможные
Информация для связи с автором: tan-can@rambler.ru
взгляды на деятельность дизайнера, мы можем сформулировать ее как объединяющую художественную деятельность в педагогическом искусствоведении, направленную на измененье и улучшение предметного мира, влияющую на многие аспекты жизни человека, его стиль. Все основные виды познавательной деятельности представлены в дизайнерской деятельности и неразрывно связаны между собой (художественная и эстетическая, познавательная и коммуникативная и др.), они по мере развития выделяются в относительно самостоятельные сферы профессиональной деятельности дизайнера и дизайн-образования.
Образование как социокультурный институт может выражаться в двух формах по отношению к производству - внешней и внутренний. С системной точки зрения это различие показывает два функциональных решения механизма образования: в
виде специальной деятельности (педагогической) и как функции, принадлежащей самой производственной деятельности. Поэтому дизайн-образование будет тем качественнее, чем успешнее будет выделен состав операций дизайнерских проектных работ, из которых складывается весь объем отдельных производственных операций дизайнерской деятельности. Чем качественнее они будут преобразованы из формы деятельности производственной организации в форму учебной организации, тем успешнее учебная организационно-структурная форма будет разложена на составляющие и собственно форму подготовки бакалавров-дизайнеров [7].
В дизайн-образовании выделяются гуманитарнотехнологические и художественные направления, в которых обозначаются: стафф-дизайн, рынок дизайна и сфера дизайна (рис. 1). Выделенные направления находятся во взаимосвязи друг с другом и отражают уровень профессионализма и компетентности бакалавра-дизайнера на рынке труда.
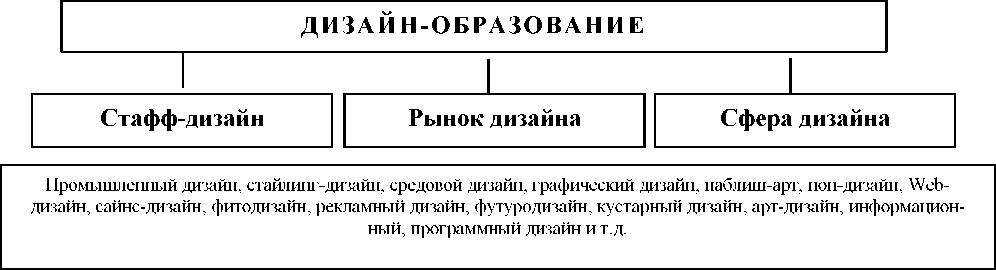
Рис. 1 - Гуманитарно-технологические и художественные направления,
дизайн-образования
Рыночные отношения - историческое явление, они многогранны и многозначительны в хозяйственно-экономическом и эстетическом измерении. Смена рыночных оценок будет распространяться на содержательно-профессиональный аспект дизайнобразования. В связи с этим «"рынок дизайна" рассматривается как система управления качеством в дизайн-образовании и является критерием оценки и переоценки творчества дизайнера и его окончательного продукта» [8].
Специалисты-дизайнеры весьма по-разному видят свою профессию, ее цели и задачи, дают непохожую этическую оценку дизайна как профессиональной деятельности. В нашем исследовании можно проследить «постепенное разделение различных позиций, связанных с делением деятельности, дифференциацией дизайна по отраслям: промышленный, средовой, графический дизайн, фито-дизайн, рекламный дизайн, экодизайн, арт-дизайн и многие другие. В процессе дифференциации дизайна на самостоятельные виды происходит постепенная поляризация различных идеологий в дизайнерской деятельности и становление специалиста» [12].
На рисунке многогранность направлений показывают различные виды дизайн-творчества. Но и вместе с этим наблюдается схожесть многих характеристик основных видов дизайна. «Дизайн, - как мы отмечаем, - направление творческой деятельности, которое никогда не останавливается на достигнутом уровне. У людей появляются новые потребности и задумки, а дизайнеры воплощают идеи в жизнь или создают свой новый оригинальный стиль. Дизайн находится в непрерывном движении, как всякая деятельность, находящаяся в процессе развития и формирования. Эта деятельность меняет фронт задач, меняет определение своего продукта, меняет организационные формы» [12].
Поэтому при подготовке дизайнеров будущего профессиональное образование всех уровней должно учитывать отраслевые виды дизайна, которые имеют социально-исторический фундамент (графический, промышленный, дизайн среды и костюма), и новые виды дизайна, которые стремительно развиваются и множатся в современном обществе (табл. 1). «На смену компьютеризации и информатике, - подчеркивает К.М. Кантор, - идет эра биотехнологий, экологического возрождения. Экодизайн - будущее профессии дизайнера. Экодизайнер должен не только уметь проектировать и создавать повседневные объекты архитектуры и промышленности, но и обладать особым проектным мышлением, учитывающим многие законы природы, могущим объединять и синтезировать различные ценности. Методической основой образования может быть творческий метод дизайнера» [9].
В таблице 1 представлены сферы дизайнерского творчества, они являются характерными для разных видов дизайнерского проектирования, каждая из которых соответствует отраслевым направлениям и входит в современный классификатор среднего и высшего профессионального образования по направлению «Дизайн».
Г.Б. Минервин указывает на то, что «широта задач современного дизайнерского проектного творчества требует подготовки целого ряда разносторонних дизайнеров, одинаково хорошо владеющих и
художественными, и утилитарно-техническими сто- специальные, и общие проблемы» [10]. ронами своей деятельности, осознающих и ее узко-
Таблица 1 - Сферы дизайнерского творчества
|
Характерные особенности вида |
Виды дизайнерского проектирования | |||
|
Графический дизайн |
Промышленный дизайн |
Архитектурный дизайн |
Дизайн среды | |
|
Субъект проектирования |
Художник-график, направление 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн» |
Художник-конструктор, направление 54.03.01 «Дизайн», профиль «Промышленный дизайн, дизайн костюма» |
Архитектор, направление 07.03.01 «Архитектура», квалификация «Бакалавр архитектуры» |
Архитектор-дизайнер, направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды», направление 54.03.01 «Дизайн. Профиль дизайн-среды» |
|
Объект проектирования |
Книжная графика, визуальные коммуникации, упаковка, фирменный стиль |
Машины, приборы, бытовое оборудование, мебель, одежда и т.д. |
Планировка и застройка населенных мест, здания и сооружения |
Предметнопространственные комплексы среды обитания, интерьеры и открытые городские пространства |
|
Формы обслуживаемой деятельности |
Проблемы общения, ориентации, эстетического состояния среды |
Оборудование и оснащение промышленности, транспорта, науки, культурнобытового сектора |
Пространственная организация жизни города и жилых, производственных и рекреационных процессов жизнедеятельности |
Комплексное обеспечение условий функционирования жилых, производственных, общественных и городских объектов и систем |
|
Ориентиры творчества |
Уникальные рядовые и «типовые» разработки |
Типологически оправданные индивидуальные и тиражируемые решения |
Инициированные функциональными задачами и контекстом индивидуальные и типовые объекты |
Синтез индивидуальных и типовых пространственных, предметных и декоративных структур, определяющих характер среды |
|
Морфологический тип « носителя » объекта проектирования |
Плоскость |
Объемы и их визуально-пластическая трактовка |
« Пространственный » каркас среды, его обработка |
Многоуровневая система объемных (предметных), пространственных и плоскостных компонентов |
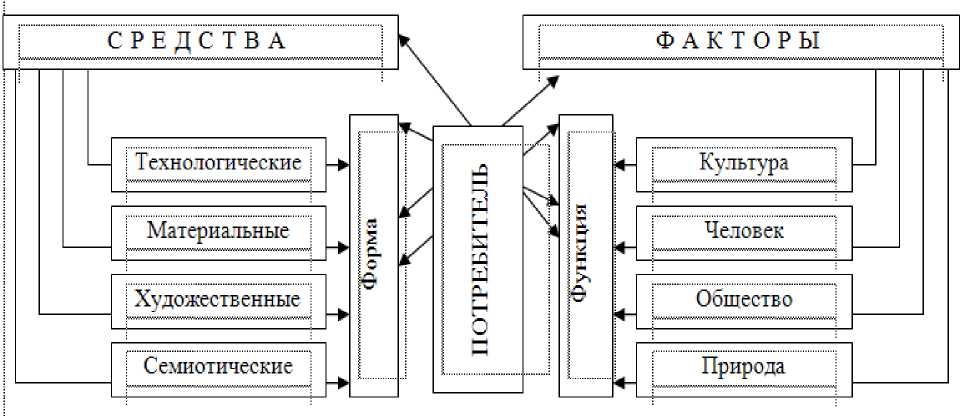
Рис. 2 — Модель системы факторов и средств дизайнерской разработки: природа - общество - человек - культура - материал - технология - искусство - язык
В исследовании мы выделяем «основные понятия и структурные элементы дизайн-образования, связанные с содержательными сторонами подготовки бакалавров-дизайнеров («субъект», «объект», «связи» и др.). Эти структурные элементы обладают одновременно многими различными характеристиками и выполняют разные функции, что определяет согласованный характер построения дизайнсистемы и отношений в ней. Содержание субъекта дизайна определяется через деятельность и выражается опосредованно в потребителе «дизайнпродукта». Объект дизайн-проектирования можно охарактеризовать как диалектическое равновесие, взаимодействие структур и форм, смысла и содержания. Соответствие строения всех этих элементов объекта достигается в системном дизайне на основе объективно существующей системы факторов и средств дизайн-проектирования» [12] (рис. 2).
Анализируя данный рисунок, мы можем увидеть, «что к факторам относятся природа (естественные законы), общество (социальные законы), человек (биосоциальные законы), культура (общественно-культурные законы). С целью создания объекта применяются материальные, технологические, художественные, семиотические средства» [12]. Четкое взаимодействие факторов и средств обеспечивает эффективность и качество проектирования функции и формы объекта (конечного продукта).
В очерках по теории системного проектирования, в дизайне «к типичным, разнообразным, но взаимосвязанным объектам системного дизайна относятся: предметная среда (тематическое единство вещей и связей между ними), программа и сценарий (фиксация вербальной основы будущих реальных действий, актов), аудиовизуальных коммуникаций, процессов, относящихся к определенной функциональной целостности. Системный характер дизайна выражается в наличии связей между субъектом и объектом. Связь выражается в процессе дизайн-проектирования, который осуществляется последовательными стадиями» [11].
Исходя из вышеизложенного, «можно сделать вывод, что дизайн как система представляет собой один из самых высоких уровней организации профессиональной художественной деятельности; включает значительное количество элементов, которые не только взаимосвязаны, но и взаимодействуют; имеет разветвленную структуру (т.е. допускает выделение иерархических уровней исследуемых элементов)» [12].
Таким образом, мы можем отметить, что сама деятельность дизайнера, особенно на системном уровне, синтетична и в методическом отношении дизайн активно собирает и ассимилирует методы и средства фактически многих видов искусств - архитектуры и пластики, живописи и графики, литературы и музыки и т.д. С этих позиций важно определить уровень подготовки дизайнеров в преемственности межпредметных связей художественнотворческих дисциплин на разных уровнях художественного образования. Сегодня нам уже не надо доказывать, что образование бакалавра-дизайнера -это не похожее ни на что образование, в результате которого происходит воспитание и формирование проектно-мыслящего человека, в какой бы сфере социальной практики он ни действовал - духовной культуре, образовании, науке, производстве, бытовой среде и т.д. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что дизайн-образование имеет перспективу стать частью не только профессионального, но и целью и средством системы образования в целом.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по на
правлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (уровень бакалавриата) : приказ Минобрнауки России от 11.08.2016 № 1004 [Текст] // Российская газета. - 2016. - 12 сентября.
2. Глазычев, В.О дизайне [Текст] / В. Глазычев // Очерки по теории и практике дизайна на Западе. - М. :
Искусство, 1970. - 191 с.
3. Паничева, Э.В. Художественное образование как объект культурологического исследования и художественной
культуры [Текст] / Э.В. Паничева // Художественное образование: поиски, проблемы, перспективы : материалы науч-практ. конф. / науч. ред. Э.В. Паничева, Н.К. Шабанов. - Воронеж, 2003. - Вып. 1. - С. 3-13.
4. Золотарева, Л.Р. Проектирование спецкурса «Педагогическое искусствоведение» [Текст] /
Л.Р. Золотарева // Вестник Карагандинского университета. Сер. Педагогика. - 2009. - №3(55). - С. 5-13.
5. Сластенин, В.А. Гуманитарная культура специалиста [Текст] / В.А. Сластенин // Актуальные проблемы
гуманитарного образования на пороге XXI века. - М., 1991. - С. 21-25.
6. Белозерцев, Е.П. Образ и смысл русской школы: очерки прикладной философии образования [Текст] /
Е.П. Белозерцев. - Волгоград : Перемена, 2000. - 461 с.
7. Сааков, В. Дизайн: культурно-историческое предприятие [Электронный ресурс] / В. Сааков // Проектиро
вание и исследование социокультурных и социотехнических систем. - (http://priss-
laboratory.net.ru/T.E.X.T.S.-/design-cult-history-enterprice_1.htm#2).
8. Рунге, В.Ф. Основы теории и методологии дизайна : учеб. пособие [Текст] / В.Ф. Рунге,
В.В. Сеньковский. - М. : М3-Пресс, 2001. - 250 с.
9. Кантор, К.М. Правда о дизайне: Дизайн в контексте культуры доперестроечного тридцатилетия 1955-1985:
История и теория [Текст] / К.М. Кантор. - М., 1996. - 286 с.
10. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник [Текст] / Г.Б. Минервин [и др.]. - М. : Архитектура-С, 2004. - 288 с.
11. Дизайн: очерки теории системного проектирования [Текст]. - Л. : ЛГУ, 1983. - 183 с.
12. Харьковский, Н.П. Преемственность подготовки специалистов-дизайнеров в контексте непрерывного образования : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 [Текст] / Н.П. Харьковский. - Елец, 2005. - 23 с.
кандидат психологических наук, доцент кафедры практической психологии;
магистрант 1 курса психолого-педагогического факультета,
направления «Психологическое консультирование в образовательных учреждениях»,
Воронежский государственный педагогический университет
АННОТАЦИЯ. Рассмотрены теоретические подходы к изучению Я-концепции в отечественной и зарубежной психологической литературе; описаны личностные особенности, характерные для педагогов, а также различные аспекты профессионального самовоспитания педагогов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Я-концепция, педагог, самоотношение, эго-идентичность, самовоспитание. KLEPACH Yu.V.,
Cand. Psycholog. Sci., Docent of the Department of Practical Psychology;
1st Year Master’s Student of the Faculty of Psychology and Pedagogy,
Educational Program "Psychological Consultation in Educational institutions",
Voronezh State Pedagogical University
ABSTRACT. The article deals with theoretical approaches to the study of self-concept in domestic and foreign psychological literature; personal characteristics of teachers, as well as various aspects of professional selfeducation of teachers are described.
KEY WORDS: self-concept, teacher, self, ego-identity, self-education.
Современная государственная образовательная политика направлена на подготовку квалифицированных работников, которые должны обладать ответственностью, быть способными к конкуренции, иметь необходимые компетенции, быть готовыми постоянно профессионально расти, приобретать новые навыки, иметь социальную и профессиональную мобильность. Личность педагога, его профессиональные умения должны соответствовать высоким требованиям. В настоящий момент в системе образования педагогу нужно не только иметь специальные знания, умения и навыки, но и обладать основными ключевыми компетенциями, включающими когнитивный, операционально-технический, мотивационный, этический, социальный, коммуникативный, поведенческий компоненты.
Успешность и продуктивность работы педагога определяется тем, какие усилия он прилагает для улучшения ситуации на рабочем месте, насколько его представления о себе, самооценка и поведение конгруэнтны окружающей действительности, присутствует ли стремление постоянно совершенствовать свою личность, учиться регулировать эмоциональные состояния, проявлять творческую активность в работе. Важной составляющей, влияющей на становление личности как профессионала, является самосознание, оно позволяет реализовывать творческий потенциал, достигать поставленных целей.
В процессе профессиональной деятельности педагог личностно растет, меняются его представления о себе, об учащихся, окружающем мире. Самооценка приобретает черты устойчивости. Для современной системы образования характерна гуманистическая направленность в обучении, личностно ориентированный подход. В психологической и педагогической литературе существует множество исследований, изучающих особенности самосознания, самоотношения педагога. Эта тема является очень актуальной, поскольку для успешной профессиональной деятельности педагогу необходимо осмыслять и понимать процессы и изменения, происходящие внутри него.
Вопросы, связанные с исследованием различных составляющих Я-концепции, разрабатывали такие психологи, как Р. Бернс [1], Э. Эриксон [6], К. Роджерс, Ч. Кули, Дж. Мид, У. Джеймс.
Категория «самосознание» рассматривается в отечественной психологии такими исследователями, как И.С. Кон, С.Л. Рубинштейн, В.В. Столин [5].
В нашем исследовании были поставлены задачи: проанализировать различные теоретические подходы к изучению Я-концепции в отечественной и зарубежной психологической литературе; рассмотреть основные компоненты Я-концепции; выявить особенности личности и показатели самоотношения, характерные для педагогов, различные аспекты самовоспитания педагогов.
Проблемой Я-концепции занимались как отечественные, так и зарубежные исследователи. Данное понятие включает в себя: образ «Я» (характер представлений о самом себе), самооценку (отношение к себе) и поведение, исходя из этих представлений. В.П. Зинченко определяет Я-концепцию как пред-
Информация для связи с автором: y-klepach@mail.ru
ставления человека о себе, которые характеризуются относительной устойчивостью, осознанностью; они обусловливают стиль взаимоотношений с окружающими и отношение к самому себе и могут содержать в себе внутренние противоречия. Первым ученым, начавшим исследовать Я-концепцию, стал У. Джеймс. Он выделял 2 компонента в структуре личности: «Я» - познаваемое опытным путем и «Я» - познающее. Эти компоненты могут быть отделены друг от друга только в теории. Физическая, социальная и духовная составляющие входят в познаваемую часть.
Спустя некоторое время Д. Мид и Ч. Кули предложили концепцию, в которой говорилось о том, что социум оказывает существенное влияние на формирование представлений о себе, эти представления отражаются в обществе, как в зеркале.
Э. Эриксон [6] предложил рассматривать Я-концепцию в контексте понятия «эго-идентичность». Он считал, что на эго-идентичность влияют способности данного человека, культурная среда, в которой он находится, его возможности. Поиск идентичности происходит в подростковом возрасте, подросток сравнивает, соответствует ли его отношение к себе мнению окружающих. Если обнаруживается несоответствие, наступает кризис эгоидентичности, подросток не знает, с кем себя идентифицировать, не может иметь правильное сформированное представление о том, кем он является. Данный период очень важен для дальнейшего самоопределения человека в жизни, выстраивания конструктивных взаимоотношений с другими людьми.
Формирование эго-идентичности происходит в области бессознательного. Согласно взглядам Э. Эриксона, представления человека о своей личности, оценку себя нужно рассматривать в динамике, они не завершаются в определенный момент времени, могут претерпевать некоторые изменения [6]. Я-концепция в определении Р. Бернса - это сумма представлений человека о себе, связанная с оцениванием другими. Она влияет не только на то, кем является человек на данный момент, но и на то, как он оценивает свою настоящую деятельность, перспективы будущего роста. Р. Бернс пишет, что внешние влияния формируют Я-концепцию, но самое большое значение имеют значимые люди, на их мнение в основном и опирается человек, вырабатывая отношение к себе [1].
Д. Келли предложил теорию личностных конструктов, он обратил внимание на психологические процессы, которые помогают людям в понимании происходящих жизненных событий. У каждого имеются собственные модели, системы понятий -это и есть личностные конструкты, благодаря которым человек приспосабливается к окружающей действительности, объясняет себе различные события и явления, происходящие в мире. Д. Келли говорит о том, что личностные конструкты и составляют Я-концепцию. К. Роджерс является представителем гуманистического направления в психологии, большое внимание он уделял Я-концепции, ставил ее в центр своей теории, получившей название феноменологической. Он говорил о том, что Я-концепция включает в себя представления человека о своих возможностях, особенности взаимодействий с окружающими, ценностные ориентации, которые могут быть направлены в положительную или отрицательную сторону.
Я-концепция также складывается из того, какое отношение личность имела к себе в прошлом, какое имеет в настоящем и какое самоотношение будет присутствовать в дальнейшем. По словам К. Роджерса, Я-концепция - гештальт, характеризующийся последовательностью, организованностью, его можно осознавать. Различные его структурные элементы человек видит частью своей личности. Как пример, личность может думать о себе следующим образом: «Я добрый, способный, открытый, искренний, коммуникабельный».
Как считает Р. Бернс [1], в состав Я-концепции входят многочисленные образы себя, их классифицируют с помощью различных критериев. По временным характеристикам выделяют настоящее «Я», «Я» в будущем, «Я» в прошлом. По характеру содержания - физический, интеллектуальный, эмоциональный, социальный образ себя. По информационному источнику - «Я» по мнению родителей, друзей. В состав Я-концепции входят представления человека о себе в настоящий момент: каким, как он считает, его видит социальное окружение и к чему стремится человек, его идеал.
Среди отечественных психологов, занимавшихся исследованием Я-концепции, можно выделить А.В. Иващенко. Он считает, что Я-концепция является результатом развития психики, это сумма восприятий самого себя, формирующихся в процессе взаимодействий с окружающей действительностью, и личность в ее целостности. Я-концепция может быть верной, адекватной или иметь искаженные черты, так как она формируется под влиянием социума. По мнению В.В. Столина [5], основой того, как человек осознает себя, является его активность, в ее рамках происходит формирование и действие самосознания. Личность содержит в себе как биологические, так и социальные характеристики. На биологическом уровне отношение к себе зависит от роста, веса, состояния здоровья в целом. В обществе происходит идентификация по половому, возрастному, гражданскому, ролевому признаку.
По мнению С.Ю. Головина, в структуре Я-концепции можно выделить:
1. Познавательную составляющую - то, что индивид думает о собственных качествах, способностях, особенностях внешнего вида, собственной полезности для социума.
2. Эмоциональный компонент - уважение индивида к себе, любовь к себе или, напротив, принижение своих достоинств.
3. Волевую составляющую - действия индивида, направленные на повышение уровня самооценки, завоевание уважения и благожелательного отношения окружающих.
В современной науке находят место разные теории понимания структуры Я-концепции. Отечественные психологи выделяли несколько компонентов: познавательный компонент; компонент, отражающий эмоции индивида; компонент, содержащий поведение; компонент мотивации деятельности. Познавательный компонент содержит в себе знания о своих особенностях, структуру собственного образа, человек осознает и познает себя, анализирует мысли и поступки, делает выводы, каким образом ему следует поступать в дальнейшем, что именно следует учесть, в процессе этого его личность изменяется, развивается.
Компонент эмоциональной составляющей проявляется в том, что человек ощущает свою реализованность в каком-либо деле или, наоборот, нереализованность, это выражается в уровне самооценки и характере самоотношения. Отношение к себе является динамическим, оно меняется, видоизменяется, дополняется новыми гранями и проявляется в общении с окружающими, совместных занятиях с ними.
Благодаря поведенческому компоненту Я-концепции человек проявляет себя во взаимодействии с другими людьми, контролирует свое поведение, несет ответственность за поступки, развивается как личность; при этом другие компоненты находятся в согласованности друг с другом. Личность осуществляет осознанную саморегуляцию. В работах М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбовича мы находим следующие составляющие Я-концепции:
1. «Я» в настоящем - как человек оценивает собственные личные качества.
2. «Я» в идеале - идеальный педагог в представлении человека.
3. Образ себя, противоположный идеалу, или антиидеал, - представления о чертах облика, не являющихся желательными.
4. Профессиональный Я-образ - каким образом оцениваются профессиональные качества, мотивы, эффективность собственной деятельности, ее характер.
В педагогическом труде, его психологических особенностях чрезвычайно важными являются личностные качества педагога, каким образом он осуществляет профессиональные действия и общается с участниками образовательного процесса. Американские ученые проводили исследование на открытом уроке, было обследовано шесть тысяч педагогов в течение 6 лет. Когда был завершен сбор необходимого материала, данные обрабатывали при помощи факторного анализа. В результате обнаружили факторы, которые влияют на то, как формируется хороший педагог, что влияет на его имидж: это умение сопереживать, быть дружелюбным - эгоцентричность, равнодушие к окружающим; системный, деловой подход к выполняемой работе - несобранность, безалаберное отношение; умение вести предмет, стимулируя развитие творческих способностей у учащихся - однообразие, монотонное и скучное преподавание; доброжелательный настрой - недоброжелательный настрой; использование демократического стиля в общении и преподавании - избегание данного стиля; доброжелательное - недоброжелательное отношение к коллегам; использование традиционного подхода в преподавании - возможность придерживаться либерального типа; умение регулировать собственное эмоциональное состояние - эмоциональная нестабильность; хорошее словесное понимание.
Обязательным условием, стержнем для каждого педагога является чувство расположенности, открытости к учащимся, сердечная привязанность к ним, наличие желания и стремления взаимодействовать с детьми. Насколько педагог расположен к ученикам, становится видно из того, испытывает ли он глубокое удовлетворение от времяпрепровождения с ними, может ли чувствовать и понимать внутренние переживания ребенка, оказывать влияние на то, как формируется детская психика. Педагогу необходимо внимательно, доброжелательно и чутко относиться к учащимся, но при этом не проявлять мягкотелость, безответственную снисходительность, сентиментальность.
У человека, занимающегося определенной деятельностью, растет профессионализм, происходит изменение профессионального самосознания. В него включаются новые профессиональные признаки, повышается количество требований, наступает изменение критериев оценки своей личности в профессиональном плане. Постепенно личность преодолевает те стереотипные представления о данной профессии, которые были у него ранее, формируется целостное представление о себе в конкретной работе. У таких авторов, как С.В. Васьковская, В.Н. Козиев [3], А.К. Маркова [4], мы встречаем точку зрения о том, что, для того чтобы сформировать правильное самосознание в профессии, нужно проводить специальную работу, но часто происходит его стихийное формирование. Очень важным условием, при котором идет рост самосознания учителя, является его самовоспитание. Это работа, выполняемая сознательно, она направлена на то, чтобы личность реализовывала себя во всей полноте. Здесь предполагаются четко осознанные цели, личностные смыслы, идеалы, активизируются механизмы регуляции собственных состояний. Человек, способный к тому, чтобы воспитывать себя, имеет критическое мышление, ему необходимо иметь адекватную самооценку, анализировать собственные индивидуальные особенности и потенциальные возможности. Педагог может воспитывать свою личность в интеллектуальном, этическом, физическом, психологическом плане. Что касается интеллектуального самовоспитания, в студенческие годы оно происходит во время учебы. Те базовые знания, которые закладываются в учебный период, человек использует на протяжении всей жизни. Необходимо оценивать и переоценивать собственные моральные принципы, повышать интеллектуальный уровень. Лучший союзник здесь - чтение литературы.
Важная графа педагогической работы - этические вопросы. Педагог чаще других встречается с ними, особенно это актуально для молодых учителей, так как они еще недостаточно опытны. Значительно облегчает их работу наличие устойчивых моральных принципов и убеждений. Но часто учитель оказывается в ситуациях, где люди по одному вопросу имеют совершенно разные, противоположные суждения. Необходимо обладать гибкостью и дипломатичностью, уметь устанавливать и поддерживать контакты с собеседниками.
Физический аспект самовоспитания также очень важен. Педагоги испытывают сильнейшие эмоциональные нагрузки в повседневной работе, при этом мало нагружают себя физически. Из-за этого они подвержены болезненному состоянию, недомоганию, их иммунитет слаб. Если человек во время обучения не поддерживает себя физически, делая упражнения, это может привести к негативным результатам. Необходимо формировать у себя навыки концентрации внимания, повышать выносливость, жизненный потенциал, поднимать свой общий тонус. Для этого можно заниматься бегом, плаванием, ездить в туристические поездки, использовать какую-либо оздоровительную спортивную систему. А для того чтобы сделать свою нервную систему устойчивой и уравновешенной, нужно обучаться методам саморегуляции, умению контролировать эмоциональное состояние.
Таким образом, в результате многочисленных исследований были выявлены следующие качества, необходимые педагогу для успешной работы: это умение сопереживать, быть дружелюбным; деловой, системный подход к выполняемой работе; умение вести свой предмет так, чтобы у учащихся развивались творческие способности; доброжелательный настрой; умение использовать демократический стиль в преподавании; умение регулировать собственное эмоциональное состояние; обладание хорошей выдержкой, достаточным уровнем критичности; умение быть логичным, последовательным, организованным, ответственным, настойчивым, гибким в поведении и решении проблемных ситуаций; наличие педагогической эрудиции, порядочности, правдивости, предусмотрительности, принципиальности. Выработка и развитие данных качеств происходит в процессе ежедневного самовоспитания [2].
Итак, проведенный нами подробный теоретический анализ по проблеме особенностей Я-концепции
педагогов послужит основой для организации дальнейшего эмпирического исследования по следующим направлениям:
1) изучение содержательных характеристик идентичности личности педагога;
2) исследование представлений педагога о себе, своем идеальном «Я», изучение взаимоотношений в малых группах;
3) самооценки педагога;
4) исследование самоотношения педагога.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 62
СЕРГЕЕВА Любовь Владимировна,
Аспирант кафедры иностранных языков и перевода,
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина
АННОТАЦИЯ. Представлены проблемы развития высшего образования в России, в том числе приоритетные задачи высшей школы в контексте интернационализации и повышения конкурентоспособности российских вузов на мировом рынке образовательных услуг. Рассматривается Уральский федеральный университет как участник конкурса, вошедший в список 15 российских вузов-победителей конкурсного отбора на получение специальной субсидии, направленной на повышение глобальной конкурентоспособности университета и продвижение его позиций в международных рейтингах. Освещены, вопросы, адаптации иностранных студентов к обучению в вузе в целом и в частности на примере УрФУ, описаны результаты блиц-опроса иностранных студентов УрФУ на выявление общей адаптированности по физиологическим и социальным факторам.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конкурентоспособность вуза, социокультурная адаптация, социализация, социокультурная среда, иностранные студенты, интернационализация.
SERGEEVA L.V.,
Postgraduate Student of the Department of Foreign Languages and Translation,
Ural Federal University after the First President of Russia B.N. Yeltsin
KEY FACTORS OF INTERNATIONAL STUDENTS’ ADAPTATION TO THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT
ABSTRACT. The article presents the problems of higher education development in Russia, including the priority tasks of the higher school in the context of internationalization and increasing the competitiveness of Russian universities in the world market of education services. The Ural Federal University (UrFU) is considered as a contest participant, listed among 15 Russian universities, winners of the competitive selection for a special grant aimed at increasing the university s global competitiveness and its positions in international rankings. The issues of international students’ adaptation to the educational process both at a higher educational institution as a whole and at the UrFU, in particular, are discussed. The data of the students’ blitz-survey on identification of general adaptation for physiological and social factors is described.
KEY WORDS: university competitiveness, socio-cultural adaptation, socialization, socio-cultural environment, foreign students, internationalization.
В настоящее время имеется существенный разрыв между процессами развития высшего образования в России, а также вхождения отечественных университетов в мировое образовательное пространство и отсутствием методологических концепций и технологий, позволяющих вузам нашей страны разрабатывать конкурентные образовательные программы. Несомненно, кризис глобализации стимулирует значимость национальных проектов в области высшего образования [1, с. 17]. Еще в 2000 году в «Национальной доктрине образования в Российской Федерации» была поставлена одна из важнейших задач высшей школы -интеграция российской системы образования в мировое образовательное пространство, учитывая накопленный отечественный опыт и традиции своего государства62 [2]. В дальнейшем на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритет-
1 О национальной доктрине образования в Российской Федерации: постановление Правительства Рос. Федерации от 4 октября 2000 г. - № 751. - (Режим доступа: https://rg.ru/2000/
10/11/doktrina-dok.html).
Информация для связи с автором: l.v.chernavskih@urfu.ru ным проектам под председательством Президента РФ Владимира Путина (13.07.2016) среди приоритетных задач акцент ставился на поддержке высшего образования, в том числе продвижении российских вузов в рейтинге лучших университетов мира и повышении общего качества университетского образования63 [3].
Эту тему продолжили обсуждать 24 августа 2016 года на заседании президиума Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, посвященному сфере образования. В своем выступлении Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, представляя четыре приоритетных направления развития отечественного образования, подчеркнул необходимость продвижения инноваций в секторе высшего образования, которые бы позволили университетам зарабатывать на своём интеллектуальном продукте, а также важность повышения конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг с целью закрепления на ведущих позициях в международных рейтингах64 [4].
Не секрет, что одним из самых важных и значимых критериев конкурентоспособности не только образовательного учреждения, но и региона в целом является качество образовательных услуг. Поэтому очень важно сделать перспективу обучения иностранных студентов в российских вузах более привлекательной.
Международные образовательные программы в современной высшей школе реализуются в контексте интернационализации образования, которая должна стать переходом от эпизодических международных контактов в сфере образования между отдельными странами к содержательному научнопедагогическому объединению и партнерству. Благодаря международным программам студенты вузов различных стран обогащают свой уровень межкультурной компетенции. Обучаясь за рубежом, изучая традиции другой страны, особенности корпоративной культуры другого университета, студент получает возможность другими глазами посмотреть на собственную культуру, отечественные традиции, качество образования в своем вузе [5, с. 249].
Одним из главных приоритетов Уральского федерального университета (далее УрФУ) также является интернационализация. Если посмотреть перечень партнеров УрФУ, то в его составе можно насчитать порядка 400 зарубежных университетов из 64 стран мира. УрФУ активно участвует в международных сетевых проектах, например, «Сетевой университет БРИКС», «Сетевой университет СНГ», «Университет ШОС», «Университет Арктики (UArctic)», «Ассоциация технических университетов России и Китая» (АТУРК). В настоящее время в вузе обучается более 2000 иностранных студентов из 80 стран мира. Больше всего иностранных студентов приезжает из Казахстана, Китая, Монголии, Кореи, Вьетнама, Гвинеи. В университете проходят ежегодные международные летние школы, посвященные русскому языку и культуре, экономике и менеджменту. Ежегодно более 150 студентов УрФУ выезжает за рубеж в рамках программ академической мобильности [6].
В 2013 году Уральский федеральный университет вошел в список 15 российских вузов-по-бедителей в конкурсном отборе на получение субсидии, направленной на повышение глобальной конкурентоспособности университета и продвижение его позиций в международных рейтингах. УрФУ активно движется в данном направлении, являясь крупнейшей региональной платформой для проведения международных мероприятий. Например, в 2014 году университет принимал финал мирового чемпионата по программированию ACM-ICPC, в апреле 2016 года на площадке УрФУ успешно прошел Первый форум ректоров Сетевого университета БРИКС, а в июне 2016 года на базе вуза состоялся Международный турнир юных физиков. УрФУ является корпоративным членом Российского совета по международным делам. Неслучайно ключевым моментом миссии университета является повышение международной конкурентоспособности Уральского региона [6].
Как и во многих интернациональных вузах, в УрФУ важное место уделяется начальному этапу обучения иностранных студентов, который является сложным периодом адаптации и социализации. К его основным особенностям можно отнести приспособление к новой социокультурной среде, иным условиям быта и отдыха, новым климатическим условиям, времени, языку общения, а также усиленные эмоциональные, психологические и физические нагрузки, интенсивный характер обучения, профессиональную направленность и координацию обучения, интернациональный характер учебных групп и т.д. [7, с. 214].
В научной литературе большое внимание уделяется адаптации детей к школе, однако вопросы, связанные с адаптацией, например, первокурсников к условиям обучения в вузе, а тем более иностранных студентов, рассматриваются не так активно [8, с. 29]. Проблема адаптации иностранных студентов к новой социокультурной среде в последние годы стала очень важным объектом исследований зарубежной и российской науки, что обусловлено интенсификацией как общих миграционных потоков в целом (деловые поездки, туризм, международные обмены и т.п.), так и образовательной миграцией в частности.
На сегодняшний день до сих пор не разработано целостной концепции социокультурной адаптации иностранных студентов, под которой чаще понимается личностная адаптация, т.е. привыкание индивида к новым условиям внешней среды и их взаимное приспособление. Относительными показателями адаптированности можно считать удовлетворительное самочувствие и ощущение душевного комфорта, а также положительные эмоции в отношениях с окружающими [9, с. 268]. Идея создания комплексной программы социокультурной адаптации иностранных студентов актуальна и для Уральского федерального университета. Прежде чем приступить к работе над программой, нами был проведен ряд исследований на выявление проблемных полей в социализации и адаптации иностранных студентов в УрФУ. Некоторые результаты наших исследований уже были опубликованы ранее.
Одной из составляющих нашего исследования было проведение блиц-опроса в онлайн-форме. Данный опрос составлен с целью выявления общей адаптированности иностранных студентов по физиологическим и социальным факторам на основе анкеты, разработанной коллегами из РУДН М.И. Витковской и И.В. Троцук. Все вопросы были представлены на русском и английском языках. Практически во всех вопросах допускались комментарии, что дало нам возможность получить и некоторое эмоциональное отношение к теме исследования. В опросе приняли участие 103 иностранных студента (55 юношей и 48 девушек) из 22 стран мира (5 - из стран бывшего СНГ и 17 - из стран дальнего зарубежья). На рисунке 1 представлены участники опроса в количественном соотношении.
По оценкам студентов, сложнее всего им дается учеба в университете (26,3% опрошенных), трудно работать с учебной и научной литературой, воспринимать лекционный материал на слух и давать устные ответы; далее отмечено общение с местным населением (19,2%) и руководством вуза (17, 7%), где главным фактором, на наш взгляд, является языковой барьер и плохое знание русского языка. Достаточно высокий процент опрошенных (17,2%) испытывает затруднения в планировании и организации своего досуга, что связано с различиями в культурах стран, привычках, менталитете, отсутствием друзей (особенно на начальном этапе адаптации) и т.п. Также 12,6% респондентов указали на то, что у них возникают проблемы в быту, а так как практически все иностранные студенты живут в общежитии, следовательно, в условиях проживания в общежитии. На рисунке 2 показано процентное соотношение полей адаптированности, полученных при ответе на вопрос «Скажите, пожалуйста, что в России вам делать сложнее всего?».
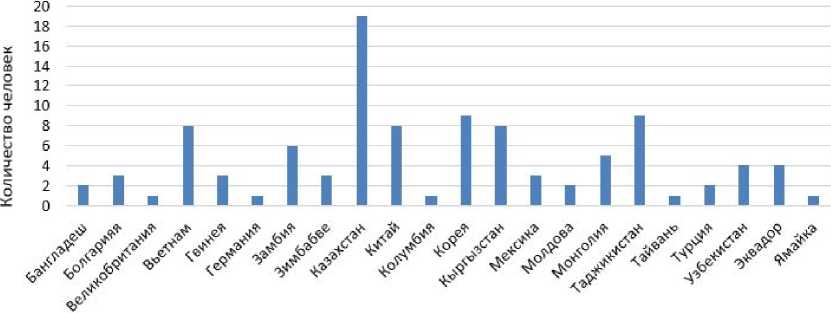
Страна прибытия
Рис. 1 - Участники блиц-опроса
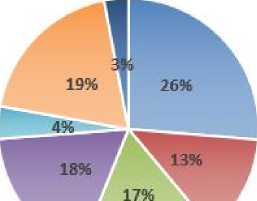
Рис. 2 - Соотношение полей адаптированности
Если посмотреть на различия в адаптации по гендерному признаку (таблица 1), то для девушек и юношей примерно в одинаковой степени сложно учиться в университете, общаться с руководством и организовывать свой досуг. А вот условия проживания в общежитии сложнее для молодых людей, тогда как девушки справляются с данной проблемой гораздо легче. Общаться с одногруппниками удается легче женской половине, однако общение с другими людьми дается проще мужской аудитории.
Таблица 1 - Гендерные различия в адаптации иностранных студентов
|
Скажите, пожалуйста, что в России вам делать сложнее всего? |
Ваш пол | |
|
Муж. |
Жен. | |
|
Учиться в университете |
25,5% |
27,2% |
|
Жить (быт) |
17% |
7,6% |
|
Отдыхать (досуг) |
16% |
18,5% |
|
Общаться с руководством |
17% |
18,5% |
|
Общаться с одногруппниками |
5,7% |
2,2% |
|
Общаться с другими людьми |
17% |
21,7% |
Одной из важных проблем для иностранных студентов является проблема уровня языковой компетенции. Большинство респондентов (66%) указали недостаточное знание русского языка для нормальной учебной деятельности, хотя 29,1% из них (это практически все респонденты из стран бывшего СНГ, где русский язык изучается в школе) указали, что могут свободно общаться в повседневной жизни. Почти 7% опрошенных (студенты из стран бывшего
СНГ) дали дополнительные комментарии по данному вопросу. Например, «Я из русскоговорящей страны», «Свободно владею русским языком», «Не обучался на подготовительном факультете» и т.п. На рисунке 3 представлено процентное соотношение ответов на вопрос «Насколько хорошо вы знали русский язык после обучения на подготовительном факультете?».
■ Мог свободно общаться на русском языке
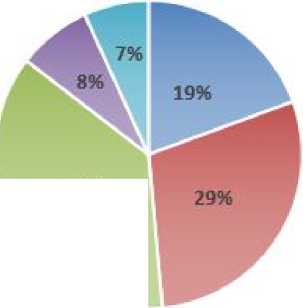
31%

■ Мог общаться, но было сложно учиться
■ Знал недостаточно для нормальной учебы
■ Знал несколько фраз
■ Другое
Рис. 3 - Знание иностранными студентами русского языка после годичного обучения на подготовительном факультете
На вопрос «Кто вам помогает, когда у вас возникают проблемы?» большинство (29,6%) опрошенных указали на друзей, 21,3% респондентов отметили, что сами справляются со своими проблемами. 17,2% и 15% опрошенных указали, что в решении их проблем участвуют преподаватели и одногруппники соответственно. По 6,7% иностранных студентов указали на руководство университета и землячества. Для справки: на данный момент в
УрФУ действует 12 студенческих землячеств (землячества обучающихся из стран Африки, из Арабских, Латиноамериканских государств, Объединенное Азербайджанское и Турецкое землячество, из Армении, Туркмении, Китая, Монголии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана). 1,5% опрошенных дополнительно указали профком студентов. На рисунке 4 представлено процентное соотношение ответов респондентов по данному вопросу.
■ Руководство Университета
■ Землячество
■ Друзья
и Одногруппники
■ Посольство
■ Преподаватели
■ Все свои проблемы решаю сам
■ Другое
Рис. 4 - Приоритетные группы поддержки иностранных студентов
На вопрос «Насколько руководство, на ваш взгляд, помогает решать вам ваши проблемы?» положительно ответили 40,2% опрошенных, 36,9% -занимают нейтральную позицию, отрицательную оценку работе руководства вуза дали 22,3%. На рисунке 5 представлено процентное соотношение оценок иностранными студентами работы руководства УрФУ.
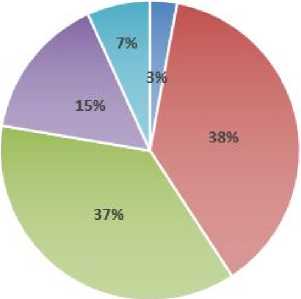
■ Руководство всегда проявляет внимание и заботу
■ Руководство всегда помогает, если я к нему обращаюсь
■ Не могу сказать ничего ни плохого, ни хорошего
■ Руководство выполняет только свои минимальные обязанности, возникающие
проблемы его не интересуют
■ Руководство практически ничего не делает для иностранных студентов
Рис. 5 - Оценка работы руководства УрФУ иностранными студентами
Основные различия в первых впечатлениях иностранных студентов по прибытию в Россию по гендерному признаку представлены в таблице 2. Девушкам в большей степени нравится изучение русского языка (15,5%), университет и его многонациональность (12%), город, его достопримечательности и природа (14%), а также русская культура (9,5%). Молодых людей привлекают русские девушки (13,1%), они проще относятся к другому климату и погоде. Примерно в равных позициях у девушек и юношей находится учеба в университете, другой образ жизни, самостоятельность и независимость, отношение к русским людям, а также местная кухня. В целом больших различий по гендерному признаку мы не обнаружили.
Таблица 2 - Гендерные различия в первых впечатлениях иностранных студентов
|
Что вам понравилось, когда вы приехали в Россию? |
Ваш пол | |
|
Муж. |
Жен. | |
|
Университет, его многонациональность |
7,4% |
12% |
|
Город, его достопримечательности и природа |
11,8% |
14% |
|
Русский язык |
10,5% |
15,5% |
|
Погода |
6,1% |
2,5% |
|
Русские люди |
8,3% |
9% |
|
Учеба |
9,6% |
10% |
|
Девушки |
13,1% |
0 |
|
Культура |
6,6% |
9,5% |
|
Самостоятельность, независимость |
9,2% |
10% |
|
Наличие здесь земляков |
3,1% |
2,5% |
|
Кухня |
3,1% |
3,5% |
|
Другой образ жизни |
10,5% |
10,5% |
Общая картина по ответам на вопрос «Что вам понравилось, когда вы приехали в Россию?» выглядит так (рисунок 6).
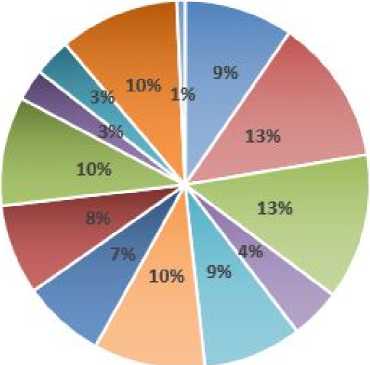
■ Университет, его многонациональность
■ Город, его достопримечательности и природа
■ Русский язык
■ Погода (снег}
■ Русские люди » Учеба
■ Девушки и Культура
■ Самостоятельность, независимость
■ Наличие здесь земляков
■ Кухня
■ Другой образ жизни
■ Другое
Рис. 6 - Первые впечатления иностранных студентов в процентном соотношении
Также иностранные студенты выражали собственное мнение дополнительными ответами на данный вопрос. Среди популярных ответов были: «недорогое образование», «общение с новыми людьми», «русские автомобили», «русская водка».
Следовательно, по результатам блиц-опроса можно сделать некоторые выводы.
Большинство студентов-иностранцев, приезжающих на обучение в Уральский федеральный университет, сталкивается с определенными трудностями коммуникативного характера (языковой барьер, общение с руководством, другими людьми, восприятие лекционного материала, организация досуга и т.п.), физиологического характера (привыкание к климату, иным погодным условиям, кухне), социокультурного характера (приспособление к бытовым условиям, иным требованиям в учебной деятельности, нормам поведения, культуре и т.п.).
Одной из наиболее сложных и значимых областей адаптации является учебная деятельность и вытекающее из этого достижение высокого уровня знания русского языка для получения профессионально значимых знаний, умений и навыков. Большинство студентов считают свой уровень знания языка недостаточным для полноценной учебной деятельности (чтения учебной и научной литературы, восприятия лекционного материала и устных ответов). Поэтому среди пожеланий студентов-иностранцев есть такие, как увеличение количества часов изучения русского языка, наличие в библиотеке учебной литературы на иностранных языках.
Большинство студентов высоко оценивают свои отношения с преподавателями, одногруппниками и руководством университета, что свидетельствует о положительной динамике адаптационных процессов.
Несмотря на то, что часть студентов указывает на сложности в бытовых условиях, сам факт проживания в общежитии благотворно влияет на их общую адаптированность (развитие коммуникативных навыков, обмен опытом между студентами разных национальностей, взаимное обогащение культур разных народов и т.п.).
В целом можно отметить достаточно хороший уровень адаптированности иностранных студентов УрФУ к университетской действительности. С учетом особенностей адаптации иностранных студентов и результатов всех проведенных исследований можно говорить о подготовке комплексной программы социокультурной адаптации, в которой будут представлены рекомендации, ориентированные на оптимизацию учебного процесса, досуга и жизнедеятельности иностранных студентов в Уральском федеральном университете.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 65
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ
кандидат педагогических наук, профессор кафедры теории и методики физического воспитания, Воронежский государственный педагогический университет;
доцент кафедры физического воспитания,
Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова
АННОТАЦИЯ. Рассматривается физическая подготовленность студентов как показатель развития профессиональных способностей и жизнедеятельности организма в целом. Авторы подобрали разнообразные физические упражнения и предложили тактику их применения на занятиях, что в конечном итоге способствовало повышению уровня физической подготовленности и двигательной активности студентов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: воспитание, качества, физическая подготовленность, уровень развития, тактика применения, студенты.
Сand. Pedagog. Sci., Professor of the Department of Theory and Methodology of Physical Culture,
Voronezh State Pedagogical University;
Docent of the Department of Physical Education,
Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov
ABSTRACT. In this article the physical training of students is regarded as a criterion for professional development and vital functioning of the organism in general. The authors made a selection of various physical exercises and proposed a strategy of applying them during classes, which ultimately contributed to the improvement of the overall level of physical training and motor activity of students.
KEY WORDS: education, qualities, physical training, level of development, strategy, students.
Постановка проблемы
Стремительное развитие современной науки, связанное с техническим прогрессом, большое количество информации, которая необходима настоящему специалисту, способствуют тому, что деятельность студента становится все более напряженной и интенсивной [2; 4]. В связи с этим возрастает и значение физической культуры как средства активного отдыха, повышения работоспособности и сохранения ее на протяжении всего периода обучения в вузе [3].
Исходя из того положения, что уровень физической подготовленности студента во многом влияет на высокую работоспособность, повышает сопротивляемость организма и устойчивость к простудным заболеваниям, большое значение придается двигательной активности, которая основывается на средствах и методах физического воспитания и является мощным стимулом для развития профессиональных способностей студентов и их жизнедеятельности [1; 3].
Каждое высшее учебное заведение, и ВГЛТУ не исключение, «должно стремиться к повышению уровня физической подготовленности студентов, развивать их спортивные навыки и вести пропаганду здорового образа жизни» [3].
Поэтому «основной целью государственной важности остается совершенствование физической подготовленности молодого поколения» [2], а «сохранение и укрепление здоровья студенческой молодежи - одна из приоритетных задач, стоящих сегодня перед высшим образованием» [4].
Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:
1. На основании анализа литературных источников обобщить передовой опыт и обосновать методику повышения физических качеств студентов нефизкультурных факультетов.
2. Определить и оценить уровень развития физической подготовленности студентов.
3. Внедрить в учебный процесс методику применения упражнений разносторонней направленности для повышения уровня физической подготовленности студентов лесного и механического факультетов Воронежского государственного лесотехнического университета.
Информация для связи с автором: Timfk@vspu.ac.ru
На первом этапе настоящих исследований были организованы обследования студентов 1-х курсов лесного и механического факультетов в количестве 40 человек.
Выбор для исследования контингента данных факультетов был связан с тем, что специфика будущей профессиональной деятельности и двигательная активность на них диаметрально противоположны и в процессе учебы решаются разные профессионально-производственные задачи.
Контрольные испытания, которые проводились в начале учебного года (сентябрь 2016 года), позволили определить уровень развития основных физических качеств студентов по следующим показателям:
- уровень общей выносливости определялся по показателям кросса на дистанции в 2000 м у девушек и в 3000 м - у юношей;
- уровень силовой подготовленности выявлялся по количеству повторений следующих упражнений: поднимание туловища из положения лежа у девушек и подтягивание на перекладине - у юношей;
- скоростная подготовленность определялась в беге на 100 м с высокого старта;
- результаты в челночном беге (3Ч10 м) давали возможность выявить координационные способности студентов.
Педагогические наблюдения за студентами 1-х курсов и педагогический эксперимент осуществлялись на базе спортивного зала и площадки университета в период с сентября 2016 по март 2017 года. Здесь были задействованы первокурсники тех же факультетов и в том же количестве, что и на начальном этапе работы.
Результаты исследования и их обсуждение
Основными задачами настоящего исследования являлись определение и оценка уровня физической подготовленности студентов лесного и механического факультетов.
Учебные занятия по физическому воспитанию для студентов 1-х курсов проводились два раза в неделю. Количество учебных часов, выделяемых на физическую подготовку на данных факультетах, было одинаковым, студенты обучались по единому учебному плану. Были и одинаковые контрольные нормативы (тесты), определяющие различные стороны физической подготовки.
При сопоставлении результатов тестирования с контрольными нормативами, определяющими уровень физической подготовленности, была дана оценка физических способностей студентов лесного и механического факультетов (таблица 1).
Таблица 1 - Оценка уровня физической подготовленности студентов 1 курса
|
№ п/ п |
Характеристика и направленность тестов |
Юноши п=20 |
Девушки п=20 | ||||||||||
|
Оценка в очках |
Сред. балл |
Оценка в очках |
Сред. балл | ||||||||||
|
«5» |
«4» |
«3» |
«2» |
«1» |
«5» |
«4» |
«3» |
«2» |
«1» | ||||
|
1 |
Общая выносливость (мин.). Бег на 2000 м -девушки/ Бег на 3000 м -юноши |
у |
з/ /2 |
8/ /9 |
У /8 |
5/ /1 |
2,6/ /2,6 |
у /1 |
2/ /1 |
У /6 |
у /7 |
У /5 |
2,65/ /2,3 |
|
2 |
Силовая подготовленность. Поднимание туловища из положения лежа - девушки/ Подтягивание на перекладине -юноши (кол-во раз) |
2/ /1 |
2/ /5 |
6/ /4 |
У /7 |
у /з |
2,75/ /2,7 |
1/ /1 |
V /4 |
7/ /9 |
6/ /5 |
у /1 |
2,95/ /2,95 |
|
3 |
Скоростная подготовленность - бег на 100 м с в/с (сек.) |
У |
6/ /з |
У /7 |
8/ /4 |
V /5 |
2,8/ /2,55 |
2/ /1 |
У /4 |
8/ /10 |
5/ /3 |
2/ /2 |
2,9/ /2,95 |
|
4 |
Координационная способность -челночный бег 3Ч10 м (сек.) |
У |
5/ /9 |
97 |
2/ /з |
У |
3,35/ /3,2 |
У- |
У /3 |
6/ /7 |
У /6 |
/4 |
2,85/ /2,45 |
Примечание: а) числитель - количество студентов лесного факультета; б) знаменатель - количество студентов механического факультета.
Как видно из таблицы, физическую подготовленность студентов лесного и механического факультетов можно оценить ниже среднего уровня.
Так, большинство студентов и студенток лесного факультета имело удовлетворительные оценки в беге на выносливость, тогда как большая часть студентов механического факультета в этом упражнении показала отрицательные результаты. Большое количество неудовлетворительных оценок наблюдаются у представителей обоих факультетов и в упражнениях на силу и скорость.
Оценивая уровень координационных способностей студентов, необходимо отметить достаточное количество хороших результатов у девушек-географов, тогда как студентки исторического факультета имели большее число неудовлетворительных оценок.
Анализируя показатели физической подготовленности студентов 1 курса не физкультурных факультетов по среднему оценочному баллу, можно отметить, что учащиеся имели результаты ниже среднего уровня по проявлению общей выносливости. У юношей лесного и механического факультетов он равнялся 2,6 баллов, тогда как у девушек лесного факультета этот показатель (2,65 балла) был выше на 0,35 балла, чем у девушек механического факультета.
По показателям силовой подготовленности как девушки лесного факультета, так и студентки механического факультета (2,95 балла), незначительно превосходили юношей-сокурсников, хотя и имели низкие результаты.
В проявлении скоростных способностей юноши лесного факультета по усредненному оценочному показателю были подготовлены лучше своих свер-стников-механиков. Их оценка была соответственно равна 2,8 и 2,55 баллов. У девушек этих же факультетов незначительно лучшие показатели имели представители механического факультета (2,95 балла). Хотя учащиеся лесного факультета отстали от них всего на 0,05 балла.
Оценивая уровень координационных способностей студентов, необходимо отметить сравнительно высокий средний балл у юношей-лесников (3,35 балла), тогда как их сверстники-механики отстали от них по этому показателю всего на 0,15 единиц. У девушек лесного факультета также отмечен лучший средний балл (2,85), чем у их сверстниц-механиков, хотя и те и другие студенты не вышли на уровень положительных оценок.
После предварительной оценки физической подготовленности студентов по тестам разносторонней направленности были сформированы группы, состоящие из 10 юношей и такого же количества девушек на каждом факультете, которые подбирались из числа студентов, показавших лучшие результаты в контрольных упражнениях.
Сравнительный анализ уровня физической подготовленности студентов 1 курса лесного и механического факультетов представлен в таблице 2.
Таблица 2 - Сравнительный анализ уровня физической подготовленности студентов 1 курса
|
№ n/n |
Характеристика и направленность тестов |
Юноши (X±m) |
Девушки (X±m) | ||||
|
Лесной факультет n=10 |
Механический факультет n=10 |
P |
Лесной факультет n=10 |
Механический факультет n=10 |
P | ||
|
1 |
Общая выносливость (мин.). Бег на 2000 м -девушки/ Бег на 3000 м -юноши |
13.24,2±3,1 |
13.34,4±3,5 |
<0,05 |
11.43,1±3,2 |
11.45,7±3,4 |
>0,05 |
|
2 |
Силовая подготовленность. Поднимание туловища из положения лежа - девушки/ Подтягивание на перекладине -юноши (кол-во раз) |
6,3±0,8 |
6,1±0,9 |
>0,05 |
32,4±1,1 |
29,7±1,3 |
>0,05 |
|
3 |
Скоростная подготовленность. Бег на 100 м с в/с (сек.) |
14,1±0,05 |
13,9±0,06 |
<0,05 |
17,6±0,07 |
17,9±0,06 |
<0,05 |
|
4 |
Координационная способность - челночный бег 3Ч10 м (сек.) |
7,9±0,05 |
8,0±0,04 |
>0,05 |
9,5±0,06 |
9,8±0,07 |
<0,01 |
Как видно из таблицы, юноши лесного факультета достоверно превосходили своих сверстников (P<0,05) в беге на выносливость (3000 м), тогда как девушки этого же факультета незначительно уступали девушкам механического факультета (P>0,05).
В тестах на проявление силовых способностей юноши и девушки лесного факультета имели результаты незначительно лучше, чем представители механического факультета (P>0,05).
Анализируя среднегрупповые показатели уровня скоростной подготовленности (бег на 100 м), необходимо отметить, что юноши механического факультета достоверно превосходили своих сверстников лесного факультета (P<0,05).
У девушек отмечается обратная закономерность: девушки лесного факультета были достоверно быстрее сверстниц-механиков (P<0,05).
При выполнении контрольного упражнения (челночный бег 3Ч10 м), определяющего уровень координационной способности, можно констатировать следующее: девушки лесного факультета были более координированы в своих двигательных действиях, чем девушки механического факультета (P<0,01); юноши лесного факультета в выполнении этого же теста показали результат, незначительно превышающий юношей-механиков (P>0,05).
Подводя итог анализу физической подготовленности студентов, необходимо отметить, что учащиеся лесного факультета были физически подготовлены лучше юношей и девушек механического факультета. Среднегрупповые показатели в большинстве контрольных упражнений у них были выше результатов, полученных при тестировании студентов механического факультета. Возможно, это связано со спецификой учебы на лесном факультете, где студенты во время учебных занятий проходят практику в полевых условиях.
Исходя из того положения, что физическая культура как обязательная учебная дисциплина должна присутствовать в вузе в течение всего периода обучения в виде теоретических и практических занятий, нами была предпринята попытка проследить за динамикой развития физической подготовленности студентов за первый год обучения.
В связи с тем, что основной объем учебного материала отводился на период адаптации, то есть на 1-й год обучения, когда учебные занятия проводились два раза в неделю, возможно было внесение корректив в подборе средств подготовки.
С учетом предварительных исследований была предпринята попытка выявить характер влияния различных физических упражнений, которые давались на практических занятиях, на развитие профессионально значимых и повышение уровня отстающих физических качеств студентов.
Поэтому, решая основную задачу настоящего исследования, в учебный процесс была введена методика применения упражнений разносторонней направленности для повышений уровня физической подготовленности студентов лесного и механического факультетов Воронежского государственного лесотехнического университета.
Суть методики заключалась в том, чтобы в недельный цикл, состоящий из двух занятий, включить разнообразные упражнения, охватывающие все физические качества и при правильной дозировке повышающие уровень физической подготовленности студентов.
На первом занятии недельного цикла, основной задачей которого являлось повышение уровня координационных способностей и быстроты движения, давались упражнения взрывной направленности (броски с разных положений отягощений, набивных мячей и ядер), средства на укрепление верхнего плечевого пояса (подтягивания, отжимания, лазание по деревьям).
Второе занятие, помимо средств на развитие мышц пресса и спины, включало комплексы упражнений на развитие общей и скоростной выносливости (бег на отрезках до 300 м, выполняемый в среднем темпе, и интенсивный кроссовый бег до 2 км). Величина и темп отрезков, а также интервалы отдыха между ними варьировались и зависели от физического состояния студентов, а также от погодных условий. Было также рекомендовано проводить учебные занятия в лесопарковой зоне.
По окончании учебного года нами были проведены контрольные тестирования по тем же упражнениям. Сравнивая результаты контрольных упражнений в конце учебного года с исходными показателями студентов лесного факультета (таблица 3), мы выявили, что обследуемый контингент повысил уровень физической подготовленности во всех тестах.
Таблица 3 - Показатели развития физических качеств студентов 1 курса лесного факультета по окончании учебного года
|
№ п/ п |
Характеристика и направленность тестов |
Юноши п=10 |
Девушки п=10 | ||||||
|
Исходные данные X±m |
Конечные данные X±m |
P(t) |
Прирост в % |
Исходные данные X±m |
Конечные данные X±m |
P(t) |
При рост в % | ||
|
1 |
Общая выносливость (мин.). Бег на 2000 м -девушки/ Бег на 3000 м -юноши |
13.24,2±3,1 |
13.10,7±3,0 |
<0,01 |
1,6 |
11.43,1±3,2 |
11.30,7±3,5 |
<0,05 |
1,7 |
|
2 |
Силовая подготовленность. Поднимание туловища из положения лежа -девушки/ Подтягивание на перекладине -юноши (кол-во раз) |
6,3±0,8 |
9,4±0,8 |
<0,01 |
49,2 |
32,4±1,1 |
38,9±1,4 |
<0,01 |
20,1 |
|
3 |
Скоростная подготовленность. Бег на 100 м с в/с (сек.) |
14,1±0,05 |
13,9±0,05 |
<0,05 |
1,4 |
17,6±0,07 |
17,2±0,06 |
<0,01 |
2,3 |
|
4 |
Координационная способность - челночный бег 3Ч10 м (сек.) |
7,9±0,05 |
7,7±0,04 |
<0,01 |
2,5 |
9,5±0,06 |
9,2±0,07 |
<0,01 |
3,1 |
|
5 |
Средний прирост показателей физической подготовленности по сумме всех тестов |
13,7 |
6,8 | ||||||
В упражнениях на выносливость как юноши, так и девушки добивались определенных результатов, позволяющих достоверно констатировать положительные сдвиги. У юношей в беге на 3000 метров среднегрупповой результат повысился на 13,5 сек. (Р<0,01), а у девушек в беге на выносливость (2000 м) был равен 11 мин. 30,7 сек., что на 12,4 сек. лучше исходного показателя (Р<0,05).
Наибольший прирост результатов наблюдается в силовых упражнениях. Так, у юношей он составил 49,2%, тогда как у девушек он был равен 20,1%.
Результаты скоростной подготовленности (бег на 100 м) показали значительный и достоверный прирост в данном упражнении у девушек на 0,4 сек. (Р<0,01), тогда как у юношей он был равен 1,4% (0,2 сек.; Р<0,05).
В упражнении на координацию движений (челночный бег 3Ч10 м) девушки достоверно улучшили свои результаты (Р<0,01), при приросте в 3,1%. У юношей среднегрупповой показатель был не столь значительный (Р<0,05), прирост составил всего 2,5% .
Анализируя результаты, показанные студентами механического факультета в начале и в конце учебного года (таблица 4), необходимо отметить значительный прирост результатов в силовых упражнениях. Так, юноши, выполняя подтягивания на перекладине, улучшили свои результаты на 45,4%, тогда как у девушек при выполнении упражнения в поднимании туловища из положения лежа этот показатель составил 18,2%.
Таблица 4 - Показатели развития физических качеств студентов 1 курса механического факультета по окончании учебного года
|
№ п/ п |
Характеристика и направленность тестов |
Юноши п=10 |
Девушки п=10 | ||||||
|
Исходные данные X±m |
Конечные данные X±m |
P(t) |
Прирост в % |
Исходные данные X±m |
Конечные данные X±m |
P(t) |
При рост в % | ||
|
1 |
Общая выносливость (мин.). Бег на 2000 м -девушки/ Бег на 3000 м -юноши |
13.34,7±3,5 |
13.21,5±3,0 |
<0,05 |
1,5 |
11.45,7±3,4 |
11.34,1±3,3 |
<0,05 |
1,5 |
|
2 |
Силовая подготовленность. Поднимание туловища из положения лежа -девушки/ Подтягивание на перекладине -юноши (кол-во раз) |
6,1±0,9 |
8,9±0,8 |
<0,01 |
45,4 |
29,7±1,3 |
35,1±1,2 |
<0,01 |
18,2 |
|
3 |
Скоростная подготовленность. Бег на 100 м с в/с (сек.) |
13,9±0,06 |
13,8±0,05 |
>0,05 |
0,7 |
17,9±0,06 |
17,7±0,06 |
<0,05 |
1,1 |
|
4 |
Координационная способность - челночный бег 3Ч10 м (сек.) |
8,0±0,04 |
7,8±0,05 |
<0,01 |
2,5 |
9,8±0,07 |
9,7±0,06 |
>0,05 |
2,0 |
|
5 |
Средний прирост показателей физической подготовленности по сумме всех тестов |
12,5 |
5,7 | ||||||
Оценивая итоговые результаты контрольных упражнений на выносливость, необходимо отметить достоверное улучшение данного физического качества как у юношей, так и у девушек (1,5%). Однако среднегрупповой результат незначительно превысил общую удовлетворительную оценку.
Сравнивая исходные и конченые результаты в контрольных упражнениях на проявление скоростных и координационных возможностей, мы можем сказать о слабой динамике прироста показателей. Только у юношей в челночном беге отмечается значительный прирост координационных способностей (2,5%), тогда как в остальных тестах он колебался на уровне 1%.
Заключение
Подводя итоги настоящего исследования, необходимо констатировать, что по уровню развития основных физических качеств студенты лесного и механического факультетов имели неудовлетворительные оценки в начале учебного года, что говорит об их слабой физической подготовленности.
Учебные занятия по физическому воспитанию в университете, подбор разнообразных средств и методов физической подготовки позволили повысить уровень физической подготовленности студентов и привести их к следующим показателям:
а) лесной факультет: юноши - 13,7%, девушки - 6,8%;
б) механический факультет: юноши - 12,5%, девушки - 5,4%.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Богданов, О.А. Сравнительная динамика физического развития и физической подготовленности студенток-первокурсниц [Текст] / О.А. Богданов, Л.Н. Шелкова, И.П. Васютина // Теория и практика физической культуры.- 2016. - №8. - С. 35-37.
2. Ильинич, В.И. Физическая культура студента и жизнь : учебник для вузов [Текст] / В.И. Ильинич. - М. :
Гардарики, 2010. - 368 с.
3. Организационно-методические подходы к комплексной оценке физической подготовленности студентов [Текст] / К.Э. Столяр [и др.] // Теория и практика физической культуры. - 2016. - №9. - С. 9-11.
4. Яковлева, В.Н. Физическое воспитание и физическая подготовленность студенческой молодежи [Текст] /В.Н. Яковлева // ScienceTime. - 2014. - №9. - С. 254-261.
• Исторические науки, археология (отрасль науки 07.00.00)
• Филологические науки (группы специальностей: Литературоведение 10.01.00, Языкознание 10.02.00)
ЗАСЕЛЕНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЙ БЫТ ЗАУРАЛЬЯ ПО ПУБЛИКАЦИЯМ А.Н. ЗЫРЯНОВА В «ПЕРМСКИХ ГУБЕРНСКИХ ВЕДОМОСТЯХ»_
соискатель кафедры отечественной истории и документоведения,
Курганский государственный университет
АННОТАЦИЯ. Рассматриваются публикации А.Н. Зырянова в «Пермских губернских ведомостях», касающиеся заселения, создания и формирования Шадринского уезда Пермской губернии, повествующие о жизни уездного города Далматова. В этих работах использовались архивные документы XVII—XVIII вв, большая часть которых была впоследствии утрачена.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: краеведение, периодическая печать, провинция, Пермская губерния, заселение, юридический быт.
Postgraduate Student of the Department of National History and Document Science,
Kurgansky State University
ABSTRACT. The article discusses publications of A. N. Zyryanov in ''Perm Province Bulletin'' regarding settlement, foundation and development of Shadrinsk district in Perm province, and telling about the life of the county town Dalmatovo. In these works archival documents of the XVII—XVIII centuries were used, most of which were later lost.
KEY WORDS: local history, periodicals, province, Perm province, settlement, legal life.
Известный в Зауралье краевед Александр Никифорович Зырянов, получив возможность в 1850-х гг. работать в архивах, опубликовал в 1860-1870-е гг. результаты своих научных изысканий в «Пермских губернских ведомостях» (далее - ПГВ). Они были озаглавлены исследователем как «Материалы для описания Шадринского уезда», «Материалы для истории заселения Зауральского края», «Материалы для истории юридического быта» и печатались в газете периодически, после официальных известий. К сожалению, сохранились не все номера газеты с работами краеведа, но даже по имеющимся в распоряжении современных исследователей материалам можно составить достаточно полную картину того, как А.Н. Зырянов по доступным ему данным реконструировал историю заселения и формирования Шадринского уезда.
Повествование А.Н. Зырянова начинается с рассказов о Далмате, который жил «на левом берегу р. Исети, в пещере» в 1644 г. [1, с. 3], и о создании Д.И. Мокринским Далматовского монастыря. Исследователь отмечает, что вновь прибывавших на эту территорию людей привлекала распространявшаяся в народе слава о святом подвижнике Далмате, а также благодатная почва, привольные пастбища. Поэтому уже в 1678 г., пишет А.Н. Зырянов, Далматовский монастырь сосредоточил в своих руках управление все возрастающим населением края [1, с. 3].
А.Н. Зырянов называет основные населенные места, которые в 1640-1650-е гг. «по приходе русских жильцов в Сибирь образовались»: слобода
Служняя, деревни Нижнеярская, Верхнеярская и др. Позднее они горели, но вновь восстанавливались жителями. С течением времени численность населения увеличивалась. В 1662 г. слободчиком Юрием Соловьевым были основаны к северо-востоку от монастыря в Тобольском уезде слободы Шадрин-ская и Архангельская с острогом на левом берегу р. Исети. В качестве жителей этих слобод набирались вольные охочие люди, не бражники и не беглые, а для обработки земли и возможности осесть и обзавестись хозяйством слободчик «давал им льготы» в податях на 4 года. Рост населения этих слобод и деревень сдерживался практиковавшимися переводами семей в Каменский завод, в появившиеся с 1736 г. пограничные крепости (Миасская, Челябинская, Чебаркульская) [1, с. 3].
Представляет интерес вопрос об особенностях политики власти на новых территориях и о взаимоотношениях пришлого русского люда с местным населением - «татарами», башкирами. В опубликованном А.Н. Зыряновым в 1871 г. в ПГВ «Документе на заведение Буткинской слободы, состоящей в Шадринском уезде Пермской губернии» указано: «Было известно ранее, что земля эта «порожняя», ни кем не занята «и русские люди и татарове... впредь на той земле не жили. и та земля лежит впусте исстари и на той порожней земле слободу построить можно и Великому государю будет прибыль». Приказ об устройстве слободы в 1676 г. получили пашенные крестьяне Ивашка Сылвин и Те-решка Иванов, которым воевода Петр Шереметьев дал указную память на устройство слободы в То-
Информация для связи с автором: dasha.knyazeva.70@mail.ru
больском уезде на устье Бутки-речки. С местным населением велено жить мирно - «с татарами жить несорно». Если появятся калмыки, то следовало писать в Тобольск Шереметьеву. Для охраны слободы предписывалось набирать казачьих детей не за жалованье, а за пашню: «И чтобы те служили добро, в зернь и карты не играли и ружье, которое дано будет, не проигрывали». В этом документе приказывалось «крестьян в тое новую слободу призывать из гулящих вольных прохожих людей и не беглых крестьян... призывать их на денежный оброк, на льготные годы, а льготы давать им по 3 и по 4 года», «в новой слободе строиться, не воровать, из слободы не бежать, а пашню пахать с великим радением». Настрой на мирную жизнь, а не постоянные столкновения с местным населением подтверждается стремлением развивать торговлю: если приедут торговцы, пусть торгуют, брать пошлины законно, а «собранные деньги и записные книги посылать в Тобольск» [2, с. 152].
Возможность мирного, дружеского сосуществования разных народов подтверждает также «Предупреждение Шадринскому приказчику Гаврилу Лукичу от Алексея Фефелова» о том, что «идут в Сибирь войною башкирцы и калмыки». Кроме того, сами башкирцы сообщали об этом же. Как видим, не все представители местного населения были против русских поселенцев. Так, башкирец Зимагузя Ишкарин сам пришел в Катайский острог с известием о набеге и предупреждении, чтобы русские береглись [3, с. 172].
Зауральские крестьяне стремились к порядку и отстаиванию своих прав, что иллюстрирует заметка А.Н. Зырянова «по вопросу об отводе земли шад-ринцам». В ней он описывает твердое намерение крестьян отстоять землю, предоставленную их предкам «на строительство и освоение на застройку» уставной грамотой боярина Репнина от 1673 г. В противном случае они намерены «писать челобитную Голицыну в Тобольск», т.е. жаловаться дальше в более высокие инстанции [4, с. 147].
Возникавшие жизненные проблемы крестьяне предпочитали решать с помощью добровольных соглашений. Краевед приводит в качестве примера устный договор между крестьянами Красномыль-ской слободы и Шадринского острога о том, чтобы скот первых по Исети свободно не плавал и не уходил ко вторым, «поскотинный двор огородить за Исетью-рекою», а красносельские крестьяне поступаются «по Мыльниковой деревне мерою же» [5, с. 142]. Данный договор был совершен, по сообщению А.Н. Зырянова, в судной избе Красномыльской слободы, а начальство об этом поставил в известность Дмитрий Дементих, который, скорее всего, был там дьяком.
Документы конца XVII - начала XVIII вв. показывают нам далеко не слабых и безропотных работников, но знающих и имеющих смелость обращаться в самые высокие инстанции и даже к царевичам Иоанну и Петру, а затем и к Петру Алексеевичу как к единовластному государю. Таков документ «от гулящих людей на слободчика Красномыльской слободы Михаила Павлова», который вместо того, чтобы землю для десятинной пашни дать, как было обещано крестьянам, идущим добровольно осваивать Сибирь, «требует посулы большие в свой карман», а земли не дает [6, с. 129-130]. Крестьяне Шадринской слободы не желали отвечать за чужие провинности и неисполнение царского указа о создании хлебных запасов (магазей) вместо людей, которым надлежало выполнять этот указ, о чем они писали в жалобе Петру I «на растрату магазейного хлеба», выражая просьбу наказать виновных в этом конкретных людей - Григория Шарыгина и Федора Денисова [7, с. 133].
Увеличение количества населения на зауральских землях подтверждается «Извлечением из указа Тобольской губернской канцелярии, данного Ка-тайскому острогу выборным челобитникам от 3 июня 1779 года», основанном на переписи дворянина Полозова. Документ касается села Катайского, расположенного на левом берегу р. Исети в Камыш-ловском уезде в 136 верстах от Екатеринбурга и 77 верстах от Шадринска. А.Н. Зырянов отмечал, что в его время это было «богатое место для хлебной торговли». Подробнейшим образом расписано, кто там проживал и чем занимался - от попа, пашни не пашущего и имеющего покос на 300 копен, до татарского толмача Мурзина родом из алатырских татар. Кроме того, указывалось, что село располагало 860 десятинами земли, 58 дворами беломестных казаков и 269 крестьянскими дворами. Оброк выплачивался в основном хлебом, иногда деньгами
- до 1 руб. Иногда катайцам доставляло беспокойство передвижение башкирцев из-за камня вместе с черемисами и чувашами, но их попытки вымогать у крестьян оброки за рыбную ловлю не имели успеха [8, с. 161-162].
А.Н. Зырянов часто описывал бытовые случаи, которые рассматривались в судной избе: от драк и побоев, брани и угроз до явного грабежа и бесчестия. Так, была подана жалоба на то, что в дому у жалобщика хотели человека ножом и обломком косы зарезать. И этому были свидетели (они все перечислялись). Хотя обвиняемый отпирался, говорил, что был «пьяной» и ничего не помнит, а люди на него напраслину возводят, но он был наказан -бит батогами [9, с. 385]. В другом случае речь шла о бесчестии и грабеже, а жалобу подавал Кузка Попов на Василея Мякушкина, крестьянина Сухриной деревни, куда Попов приехал по служебным делам
- «для высылки пашенных крестьян и переписки». Мякушкин вышел со своего двора, стал бить Попова, снял с него серебряный крест, а его жена пострадавшего Попова всячески обзывала. Были длительные разбирательства этого дела, но завершилось все относительно благополучно для обвиняемых, поскольку была просьба не доводить это дело до суда, а решить все миром, «не дожидаясь решения судного дела» [10, с. 371].
В большинстве опубликованных А.Н. Зыряновым документов указывается одно наказание - битье батогами. Так, в деле «О побоях» в судную палату обратился Калинка Бакачев на Офоньку Павлова за то, что тот бил его до крови и вором назвал. На очной ставке выяснилось, что Павлов не бил Бакачева, а лишь называл его плутом, так как он жену своего товарища-конокрада прятал. В результате к порке батогами приговорили обоих [10, с. 371]. Гришка Казанец с товарищами обратился в судную избу с тем, что у Мишки Яковлева умерла жена Федосьица, а они слышали, что он ее сильно бил. На допросе жены заявителей показали, что «жену свою Яковлев кулаками сильно бил, но не до смерти», и она от него сбежала. В результате саму Федосьицу приговорили к битью батогами за побег, а Яковлева также выпороли за то, что он жену свою бил [11, с. 307]. «Битье батогами нещадно» можно было получить не только за бытовые преступления, но и за «неисполнение приказа об отсылке пороху и свинца в Катайский и другие остроги». Так, не выполнившего приказ Гавриилу Назимова приговорили «посадить в тюрьму на день», а беломестных казаков и пашенных крестьян, которые не дали ему этого сделать, - нещадно пороть.
В то же время были возможны мировые соглашения, даже если речь шла о краже платья и одежды в Далматовской пустыне, в чем сначала обвинили паломников, но затем пришли к соглашению самим уладить проблему и не давать ход челобитной [11, с. 307] .
В публикации 1876 г. А.Н. Зырянов рассмотрел материал тяжбы 1699 г. об отсечке хвостов у скота. Пашенные крестьяне Барневской слободы написали челобитную Петру I на отставного драгуна Василея Мартынова, который портил их скот - подрубал коровам хвосты. В ходе разбирательства выяснилось, что Мартынов делал это, чтобы отучить чужой скот портить свое сено в стогах, так как хозяева от потравы отпирались. Дознание же показало, что потрава была. Сам обвиняемый Мартынов также написал челобитную о возможности разрешить этот вопрос самостоятельно и мирно: предлагал наложить на себя штраф в казну в сумме 50 руб. в случае, если на него будут повторные челобитные. А.Н. Зырянов отмечал тот факт, что данный процесс показывает любовь к самосуду у зауральских крестьян, их несдержанность, неумение спрогнозировать последствия, а происходило это, по мнению краеведа, «от недостатка развития и отсутствия грамотности» [12, с. 177].
Описывая случай «Об отыскании лошади», он показал, как долго и безуспешно некоторым людям приходилось доказывать свою правоту. Так, крестьянин Гришка Ларюнов так и не смог доказать, что пропавшая лошадь принадлежит ему, поскольку нашлось множество «свидетелей», опровергавших его заявление, и в результате рассмотрения этого дела он свою лошадь так и не получил [13, с. 218219]. Судя по публикациям А.Н. Зырянова, односельчане могли в определенных случаях (драка, брань, угрозы) брать обвиненного на поруки, под подписку. Встречались обычные драки из-за земли. Из-за безденежья большинства крестьян штрафы назначались очень редко, обычно они заменялись для «подлого», простого сословия битьем батогами. Часто мы можем лишь предполагать, чем закончилось то или иное дело, так как бумаги нередко не имели окончания, и А.Н. Зырянов либо не давал своих комментариев к тексту, либо просто публиковал его, отмечая, «чем кончилась эта пря тоже неизвестно, потому что конца этого дела я не нашел».
В целом можно отметить, что в своих публикациях в «Пермских губернских ведомостях» А.Н. Зырянов предоставляет разноплановую картину жизни крестьян Зауралья, акцентируя внимание на то, что они стремились разрешать возникающие проблемы на основе закона, через судную избу.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
|
1. |
Пермские |
губернские |
ведомости |
[Текст]. |
- 1866. |
- № |
1. |
|
2. |
Пермские |
губернские |
ведомости |
[Текст]. |
- 1871. |
- № |
30. |
|
3. |
Пермские |
губернские |
ведомости |
[Текст]. |
- 1871. |
- № 4. | |
|
4. |
Пермские |
губернские |
ведомости |
[Текст]. |
- 1871. |
- № |
29. |
|
5. |
Пермские |
губернские |
ведомости |
[Текст]. |
- 1871. |
- № |
28. |
|
6. |
Пермские |
губернские |
ведомости |
[Текст]. |
- 1871. |
- № 25. | |
|
7. |
Пермские |
губернские |
ведомости |
[Текст]. |
- 1871. |
- № 26. | |
|
8. |
Пермские |
губернские |
ведомости |
[Текст]. |
- 1871. |
- № 32. | |
|
9. |
Пермские |
губернские |
ведомости |
[Текст]. |
- 1876. |
- № |
63. |
|
10. |
Пермские |
губернские |
ведомости |
[Текст]. |
- 1876. |
- № 61. | |
|
11. |
Пермские |
губернские |
ведомости |
[Текст]. |
- 1876. |
- № |
50. |
|
12. |
Пермские |
губернские |
ведомости |
[Текст]. |
- 1876. |
- № |
30. |
|
13. |
Пермские |
губернские |
ведомости |
[Текст]. |
- 1876. |
- № |
36. |
доктор культурологии, профессор кафедры философии, экономики и социально-гуманитарных дисциплин,
Воронежский государственный педагогический университет
АННОТАЦИЯ. В России в первой половине XVIII в. основная часть потреблявшегося в стране и шедшего на экспорт текстиля являлась продукцией не мануфактуры, а домашней промышленности. Льняные, пеньковые и шерстяные ткани домашней выработки стоили намного дешевле фабричных и практически полностью обеспечивали нужды крестьянских домохозяйств и запросы внутреннего рынка. Изготовление ткани в домашних условиях представляло собой сложный технологический процесс, свидетельствовавший о наличии высокой производственной культуры у сельского и городского населения России указанного периода.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: прядение, ткачество, лен, конопля, шерсть, холст, сукно.
Dr. of Culturology, Professor of the Department of Philosophy,
Economics and Socio-Humanitarian Disciplines,
Voronezh State Pedagogical University
ABSTRACT. In Russia, in the first half of the XVIII-th century, the bulk of domestically consumed and exported textile was not the product of manufactory, but of domestic industry. Flax, hemp and woolen fabrics of home craft nature cost much cheaper than those of factory’s and fully met the needs of peasant households and demands of the internal market. Home fabric production was a complex technological process, indicating the presence of a high production culture among the rural and urban population of Russia in this period.
KEY WORDS: spinning, weaving, flax, hemp, wool, canvas, cloth.
Несмотря на создание при Петре I и его преемниках мануфактурной текстильной промышленности в России, прядение и ткачество в первой половине XVIII в. в основном оставались составной частью крестьянской «домашней промышленности», объем производства и технологическую базу которой в сравнительно-историческом отношении мы постараемся осветить. В рассматриваемый период, как правило, крестьянская семья не покупала одежду и ткани на рынке (за очень редким исключением), поэтому практически весь материал для изготовления одежды производился в пределах собственного хозяйства. Материала было нужно много: в год крестьянину требовалось 2 пары штанов и 2 рубахи (в среднем: такие нормы были и в армии, но в некоторых помещичьих инструкциях середины XVIII в. расход одежды на дворового был выше - 4 рубахи и 3 пары штанов в год), крестьянке - 2 рубахи и 2 сарафана (или в южных уездах -2 рубахи, 2 телогреи и 2 поневы). На это требовалось ткани (приблизительно): мужские штаны - 1,8 м2, рубаха - 3 м2, по две пары в год - 9,6 м2; женская рубаха - 3,2 м2, сарафан - 3 м2, телогрея и понева - по 2,5 м2, по две пары в год - от 12,4 м2 до 16 м2. Это минимальные цифры, так как мы не учитываем фасон и покрой одежды. Реальный расход ткани мог быть значительно больше - рукава у женской рубахи иногда собирались в мелкие складки, так что длина их достигала 4-62/3 аршин, т.е. 2,84-4,74 м, и только на рукава ушло бы 1,4-2,4 м2 ткани; один сарафан из коллекции ГИМ, датируемый второй половиной XVIII в., но весьма архаичного фасона, состоит из двух полотнищ длиной 105 см и шириной 256 см, т.е. площадь ткани равна 5,4 м2.
Если мы возьмем средний расход ткани на годовой комплект мужской одежды в 9 м2, а женской - 11 м2 (с одной стороны, вещей могло изнашиваться больше, с другой стороны, на детскую одежду материала шло меньше), то получим для одной души, независимо от пола и возраста, 10 м2: столько требовалось холста или полотна (все рассматриваемые предметы одежды шились, как правило, из льняной ткани) на человека в год. (В литературе середины XIX в. фигурирует цифра 20 аршин холста, т.е. примерно 7,1 м2, но это, по нашему мнению, слишком маленькая цифра, по крайней мере, для рассматриваемого периода, когда, например, ткачи у Шереметевых получали по 20 аршин холста в год только на рубахи; С.Г. Струмилин определяет норму годового потребления в 7 аршин холста и 24 аршина крашенины, при переводе в квадратные метры - это 11 м2) Соответственно, если по I-й ревизии в России насчитывалось 10,8 млн душ крестьян об.п., а по III-й -14,2 млн, то ежегодное потребление ткани равнялось 108 млн м2 в первом, и 142 млн м2 - во втором случае.
Однако мерили тогда не в метрах, а в аршинах, причем не квадратных, а погонных: на крестьянских ткацких станах производилось узкое полотно - 9-10 вершков, 20 дюймов, 3/4 аршина (прибли-
Информация для связи с автором: skriptor@icmail.ru
зительно от 40 до 53 см), и если мы возьмем среднюю ширину аршина (71 см) полотна в 0,5 м, то в одном квадратном метре будет 2,8 аршина. Значит, на время I-й ревизии потребление холста равнялось 302 млн аршин, на время III-й - 398 млн аршин (можно уравнять до 300 и 400 млн соответственно). Эти цифры можно проверить таким же расчетным путем: в год крестьянка ткала 50-80 аршин (ткацкий сезон продолжался в среднем три месяца, с марта по май включительно), соответственно, на время I-й ревизии в стране должно было насчитываться от 3,75 млн до 6 млн крестьянок-ткачих, на время III-й - от 5 млн до 8 млн (если взять усредненную норму выработки в 65 аршин, то в первом случае получим цифру 4,6 млн, во втором - 6,1 млн), в то время как душ женского пола в первом случае было 5,4 млн, во втором - 7,1 млн. Конечно, девочки до 9-10 лет за стан не садились, но пряли уже с 6-7 лет, а через 3-4 года могли начинать и ткать. Не у каждой женщины был стан: если во дворе было в среднем 4 женщины, то стан был один на четырех, но в то же время норма выработки могла быть гораздо выше, по 4-5 аршин (и даже 69) в день, а в год, соответственно, - до 450 аршин (хотя реальнее все-таки несколько меньшие цифры, упоминаемые в источниках: 200-300 аршин в сезон) [1, с. 274].
Соответствующим должно было быть и производство льна. Из пуда пряжи выходило примерно 80 аршин узкого холста (на мануфактурах первой половины XVIII в., где делали тонкое полотно, на 25 аршин шло от 7 до 11 фунтов, у крестьянок из 2-х фунтов тонкой пряжи выходило 3 аршина, толстой - 5 аршин). Если отождествить пуд пряжи и пуд льноволокна (как это иногда и делалось), то в стране должно было производиться, соответственно, 3,75 млн пуд. и 5 млн пуд. льна на время I-й и III-й ревизий. Но определенная часть волокна в процессе прядения и предшествующих операций (чесания) попадает в отход, так что из пуда льна выходит порядка 30 фунтов пряжи, поэтому можно предположить, что в первой половине XVIII в. годовое производство льна должно было составлять 4,76,25 млн пуд. Выход льноволокна из льносоломы для рассматриваемого периода можно принять за 20% (в лучшем льне-долгунце содержится до 3035% волокна, выход же колеблется в среднем от 17% до 27%), соответственно, льна-сырца тогда собирали 23,5-31,25 млн пуд. В 60-е гг. XVII в. с десятины льна получали 1 берковец (10 пуд.) волокна, в 80-е гг. XIX в. - 3 берковца (30 пуд.). В середине XIX в. урожайность колебалась от 9 до 40 пудов с десятины; в начале XX в. средняя урожайность определялась в 17 пуд. волокна; за 19011910 гг. среднегодовая урожайность льна-волокна по губерниям Европейской России колебалась от 15 до 34 пуд. с десятины, льна-зерна - от 14 до 41 пуд. Мы для первой половины XVIII в. примем цифру урожайности в 2 берковца с десятины. Таким образом, десятина льна давала 20 пудов волокна - почти 3,3 ц (в современных условиях с гектара получают от 5,5 до 12,5 центнеров волокна); отсюда можно вычислить расчетную площадь посевов льна в стране - это будет 1175-1562,5 тыс. десятин (для времени I-й и III-й ревизий соответственно).
Цифры большие; но следует помнить, что Россия традиционно была одной из крупнейших льносеющих стран, и такое положение сохранялось вплоть до начала XX в., когда более широко распространилась одежда из шерсти, шелка и особенно хлопка.
Шелковые и хлопчатобумажные ткани поступали в Россию как из Европы, так и из Китая еще в XVII в.: на московский рынок за 1692-1697 гг. было завезено 626 тыс. арш. китайских шелковых тканей (камок) и 558 тыс. арш. хлопчатобумажных тканей (китайки). Однако стоили они дорого (китайка разных сортов продавалась по 5-12 коп. аршин, камки
- от 18 до 41 коп.; аршин тафты оценивался в 60 коп., аршин атласа стоил целый рубль [2, с. 452456]), да и доля этих экспортных тканей была минимальной - 200 тыс. аршин шелка и хлопка в год никакой конкуренции льну и поскони не составляли. Своих же шелковых и хлопчатобумажных тканей в России в XVII веке почти не производилось (предпринятые уже при Петре I и Елизавете Петровне попытки развести шелковицу для тутового шелкопряда и хлопчатник ничего не дали, а импортный шелк-сырец стоил огромных денег - от 1 до 4 руб. за фунт, хлопчатая бумага тоже недешево - 20-30 коп. фунт, ближе к местам ввоза - 4-6 руб. за пуд).
В первой половине XVIII в. шелк и хлопок продолжали играть незначительную роль, ибо хлопок («катунь» - от англ. «сойоп») и ткани из него стоили в 2-3 раза, а то и в 6-7 раз дороже льна и холста: хлопчатая бумага стоила 12-20 руб. пуд, самая дешевая китайка - 10 коп. аршин; «выбойка немецкая», т.е. ситец, продавалась по 22-24 коп. аршин (московские цены 1740 г.). Ввозили сырца и пряжи даже в конце 50-х гг. XVIII в. менее 5 тыс. пуд., производили из него не более 300-400 тыс. аршин материи в год. В те же годы шелк стоил огромных денег, до 105 руб. за пуд, иногда больше - в 1760 г. пуд персидского шелка продавался по цене от 70 до 140 руб., а итальянского - 200 руб. и дороже. Шелковые ткани стоили от 80 коп. до 13 руб. за аршин, в то время как самый лучший холст продавался не дороже 5 коп. аршин, средний шел по 2-3 коп., а грубый холст-хрящ - по 1,5 коп. и даже 1,3 коп. аршин. Ввозилось шелка и производилось на месте менее 3 тыс. пуд., тканей получалось всего около сотни тысяч аршин в год (больше выпускали платков и лент: первых в 1759 г. было произведено 161 110 шт., в 1762 г. - 213 180 шт., лент - 561 200 аршин и 437 600 аршин соответственно). Шерсти, особенно тонкой, производилось мало, и сукно было традиционным предметом импорта.
Поэтому холст и полотно даже в позднейшее время служили материалом для изготовления одежды подавляющего большинства населения (одежду из льна носили не только крестьяне, но в значительной мере и горожане). На начало 90-х гг. XIX в. европейское производство льна достигало 20 874 000 пуд., из которых на долю России приходилось 11 712 000 пуд. (56,1%); в 1880 г. Россия только экспортировала 9 591 868 пуд. льна. В 1896 г. вывоз льна равнялся 12 601 тыс. пуд., кудели и пакли
- 1859 тыс. пуд.; в 1910 г. вывоз льна составил 13 501 тыс. пуд., вывоз льняной кудели и пакли -2 265 тыс. пуд. В 1909-1913 гг. среднегодовой вывоз льна, льняной кудели и пакли равнялся 17 261 тыс. пуд. Площадь посевов льна в Европейской России на 1896 г. составила 1 399 тыс. десятин, сбор льна-волокна (на 1897 г.) - 30 235 тыс. пуд., льна-семени - 38 797 тыс. пуд. В 1909-1913 гг. в мире производилось около 7,5 млн ц льна-волокна в год, России же принадлежало 80-84% мирового сбора волокна, т.е. до 630 тыс. т, или, если перевести в пуды, 38 414 634 пуд. (соответственно, 192 073 170 пуд. сырца). Поэтому цифра 4,7-6,25 млн пуд. льна-волокна в год, рассчитанная нами для первой половины XVIII в., представляется вполне реальной [3, с. 565-573, 604-609, 642-651].
Весьма значительным был спрос и на коноплю, вернее, изделия из нее. В крестьянском быту порты и рубахи из поскони - ткани, изготовленной из волокна конопли, отнюдь не были редкостью, а в южных районах, где льна сеяли меньше, даже женские сарафаны и рубахи чаще делались из поскони, чем из льняного полотна. Большое количество пеньки поглощал созданный Петром I флот: на снаряжение одной галеры расходовалось 2500 аршин парусины, 800 фунтов парусных ниток и 6 тыс. сажен канатов (напомним, что к концу петровского правления во флоте насчитывалось 787 галер и др. мелких судов, а также 48 линейных кораблей с их огромным парусным вооружением; только в Петербурге за первые три десятилетия XVIII в. было построено 29 линейных кораблей и 283 галеры). Один государственный Хамовный двор вырабатывал в петровские времена по 200-350 тыс. аршин парусины в год. Масштабы производства пеньки были велики и со временем все увеличивались. В 1900 г. производство пеньки в России определялось в 8,5 млн пуд.; в 1909-1913 гг. коноплей засевали 713,6 тыс. га (в Европейской России на 1896 г. - 512 тыс. дес.); в 1904-1909 гг. грузооборот пеньки, пакли, поскони и канатной пряжи достигал 5,1 млн пуд. в год; в 1896 г. на экспорт было отправлено 3006 тыс. пуд. пеньки; в 1907 г. за границу было вывезено 3 млн 156 тыс. пуд. пеньки и 691 тыс. пуд. пакли (всего 3 млн 847 тыс. пуд.); в 1910 г. вывоз пеньки составил 727 тыс. пуд., пеньковой пакли - 18 710 тыс. пуд.; средний ежегодный вывоз пеньки и пакли в 1909-1913 гг. равнялся 3 млн 692 тыс. пуд.
Сколько сеяли конопли и вырабатывали пеньки в первой половине XVIII в., сказать трудно. Если сложить данные вывоза пеньки, парусины, объема производства канатов, то к началу 60-х гг. эта цифра составляла примерно 1,5 млн (в среднем), значит, сырца требовалось 2,25 млн пуд. Если внутреннее потребление поскони составляло хотя бы четверть от потребления холста, т.е. 100 млн аршин, то на это требовалось еще 1,7 млн пуд пеньки, т.е. 2,55 млн пуд. сырца. (На аршин канифаса на мануфактуре петровского времени расходовали 1,6 фунта пеньки; для поскони можно взять норму 1,5 фунта - ткань на крестьянском стане производилась узкая.) С десятины получали от одного до двух, реже трех берковцов пеньки (в начале XX в. средняя урожайность определялась в 18,5 пуд. с десятины; за 1901-1910 гг. урожайность конопли-волокна по разным губерниям колебалась от 17 до 49 пуд. с десятины, конопли-зерна - от 16 до 45 пуд.; сегодня собирают от 5 до 10 ц с га). Соответственно, если взять норму урожайности 15 пуд. на десятину, то получим цифру 333 тыс. дес. посевов конопли [4, с. 33, 97].
Наконец, в крестьянских хозяйствах пряли и ткали не только лен и коноплю, но и шерсть: грубое сермяжное сукно служило материалом для верхней (обычно зимней) крестьянской одежды -кафтанов и зипунов. Носили их, наряду с шубами, и мужчины, и женщины; кафтан служил два-три года, материала на него требовалось (примерно) 4,5 м2. Соответственно, ежегодно на человека должно было идти 1,5 м2 сермяги (если кафтан носился три года; дворовым сукно или деньги на кафтан давались обычно раз в два года, однако обычный крестьянин, не получавший натурального довольствия от помещика, мог относиться к одежде и более бережно; в армии суконные части обмундирования, такие как кафтан, камзол, штаны, шляпа, так же выдавались раз в три года). Кроме того, шерстяная ткань расходовалась на онучи и головные уборы, что уравнивает меньший расход ткани на детскую одежду. Отсюда мы можем получить расчетные цифры спроса: на время I-й ревизии это 5,4 млн м2, на время Ш-й - 7,1 млн м2. Сермяга с крестьянского стана сходила узкая - от 7 до 10 вершков; если взять среднюю ширину за 8 вершков (32 см), то в переводе на аршины получим, соответственно, 23,8 млн и 31,2 млн аршин. На мануфактурах на половинку (30 арш.) солдатского сукна расходовался 1 пуд 25 фунтов шерсти, на косяк (50 аршин) стамеда и каразеи (грубых тканей, употреблявшихся на подбой) расходовалось, соответственно, 40 и 47 фунтов; солдатские сукна изготовлялись шириной 1 аршин 14 вершков (133 см). Крестьянская сермяга ткалась вчетверо более узкой, соответственно, расход шерсти можно взять приблизительно в четверть фунта на аршин; из пуда пряжи в таком случае выделывалось 160 аршин ткани. Если отход (при подготовительных операциях) на очесы и пр. взять за 25% , то из пуда сырой шерсти выходило 120 аршин сермяги; отсюда количество шерсти, необходимой для получения расчетного количества сермяжного сукна на время I-й и Ш-й ревизий будет, соответственно, 198 тыс. пуд. и 260 тыс. пуд. Если принять, что с овцы в среднем получали 2 кг шерсти в год, то поголовье овец, необходимое для производства такого количества ткани, должно было равняться 1624 тыс. голов и 2132 тыс. голов (это не очень много - реально их было, видимо, в несколько раз больше).
Шерсть эта была такого качества, что из нее можно было выработать лишь сермягу, поэтому тонкие сукна приходилось импортировать. Одна только армия потребляла огромное количество сукна: в 1718 г. на 33 кавалерийских полка требовалось 13 992 епанчи в год, на 40 пехотных полков -17 604 кафтана и 1350 епанеч, для чего было необходимо иметь 125 тыс. аршин солдатского (широкого) сукна и столько же материала на подбой, тогда как Государственный суконный двор в 17141719 гг. давал в год в среднем 5,2 тыс. аршин сукна, 47,8 тыс. арш. каразеи и 42,2 тыс. арш. стаме-да. В 1725 г. все суконные и каразейные мануфактуры страны (около десятка) поставляли в казну около 250 тыс. арш. ткани. В 1732 г. владельцы дюжины существовавших на тот момент мануфактур ставили в казну 130 тыс. арш. сукна и 390 тыс. арш. каразеи, в 1741 г. та же дюжина предприятий обязывалась изготовить для военного ведомства 288 тыс. арш. сукна и 312 тыс. арш. каразеи, т.е. общий выпуск шерстяных тканей поднялся до 600 тыс. арш. В 1760 г. 30 указных мануфактур производили 1200 тыс. аршин сукна и 420 тыс. аршин каразеи, в 1764 г. 54 мануфактуры выдавали в год 1562 тыс. арш. сукна и 283 тыс. арш. каразеи, т.е. 1845 тыс. арш. ткани. Наша расчетная цифра крестьянского производства сермяжного сукна на это время (31,2 млн аршин) выше этого показателя в 7,8 раза (с учетом того, что крестьянская сермяга была вчетверо уже солдатского сукна); понятно, что, несмотря на очень значительный рост мануфактурной выделки сукна, крестьянин по-прежнему должен был обеспечивать себя сам.
Мануфактурное сукно было весьма дорогим, по 58-60 коп. аршин, импортное английское стоило еще в два раза дороже, в то время как сермяга шла на рынке по 5-10 коп. Такое соотношение цен было традиционным. Так, в 1687 г. в Тобольске аршин сермяжного сукна продавался за 11 коп. (в 1695 г.
- за 6 коп.), в то время как аршин английского сукна стоил 90 коп., голландского - 1 руб. В Новгороде в 1714 г. сермяжное сукно стоило 5 коп. аршин, английское - 70-80 коп., голландское - 1 руб. 50 коп. - 1 руб. 80 коп. аршин. На Макарьев-ской ярмарке в 1720 г. сермяга продавалась по 5-6 коп., английское сукно шло по 1 руб. 30 коп. - 1 руб. 60 коп. В Москве в 1737 г. сермяга из Романова продавалась по 3 коп. аршин, а на Украине в 1720 г. аршин домашнего сукна продавался даже за 2 коп., т.е. в тридцать раз дешевле фабричного и в семьдесят-восемьдесят раз дешевле заморского: соотношение цен говорит само за себя. Кроме того, все мануфактуры работали исключительно на казну (да и то долго не справлялись с госзаказом, поэтому казне приходилось скупать сермягу и шить из нее солдатский мундир - так, в 1708 г. подрядчикам был дан заказ на поставку для армии 36 тыс. сермяжных кафтанов), а на рынок произведенное ими сукно практически не попадало. В 1760 г. в вольный торг поступило 33 тыс. аршин сукна (3% от общего количества выработки) и 34,5 тыс. арш. каразеи (8% выработки), в 1764 г. на «партикулярную продажу» отправилось 116 тыс. аршин сукна (7,4%), а в предшествующие десятилетия на рынок вообще попадал только брак.
Такова была ситуация на внутреннем рынке; естественно, что о внешнем рынке речь могла идти только в отношении импорта - из страны было запрещено вывозить даже шерсть и овчины (в 1720 г., подтверждено в 1735 г. и 1749 г.). Разрешение на вывоз шерсти последовал только в 1753 г., однако и в 1758-1760 гг. среднегодовой вывоз составлял ничтожную цифру 528 пудов. Шерсть, наоборот, ввозили - в 1725 г. Суконный двор на 5 тыс. пуд. русской шерсти использовал 4 тыс. пуд. турецкой (в дальнейшем доля турецкой шерсти то снижалась до нескольких процентов, то повышалась до 1/3; даже в 1768 г. 8% выработанного в стране сукна было изготовлено из турецкой, немецкой и испанской шерсти). Внутри страны товарной шерсти обращалось немного - так, в 1726 г. в Москву со всеми ее мануфактурами было привезено 828 пуд. шерсти, причем из этого количества 611 пуд. поступили из Малороссии, 102 - из Острогожска (также населенного тогда почти одними «черкасами»), 65 - из Дмитрова и по 25 пуд. - из Ельца и Мценска. Шерсть стоила недешево - в 1740 г. она продавалась по 1 руб. 53 коп. пуд. Соответственно, в целях удешевления производства суконные фабриканты нередко добавляли коровью шерсть, которая продавалась всего по 14-15 коп. пуд (для сравнения: овчинная крестьянская шапка стоила 7-10 коп., а «шляпа коровья» - 3 коп.) [5, с. 109, 188, 219, 314].
Сукно в Россию традиционно ввозилось. Так, на начало 70-х гг. XVII в. импортировалось около 150 тыс. аршин; впрочем, вывозилось в это время примерно столько же - 168,5 тыс. аршин на 6,7 тыс. руб. (для сравнения: кожи вывозилось на 335 тыс. руб., всех тканей - на 23 тыс. руб., а свиной щетины
- на 25,6 тыс. руб.), но это сукно было узким, а с началом петровских военных реформ стало уже не до вывоза. В 1700-е гг. единичные партии, поставляемые такими коммерсантами, как Томас Болдвин, Самуил Гарцын, Савва Рагузинский, равнялись 200 тыс. аршин; с 1716 г. по 1722 г. только через Архангельск было ввезено 776,1 тыс. аршин сукна [6, с. 204, 297].
В отличие от сукна, холст и пенька столь же традиционно вывозились. В конце XVI - начале XVII в. Торговая книга советовала совершать сделки с иностранными купцами на продажу партий льна по 1000 берковцов (т.е. 10 тыс. пудов). В 1666/1667 г. (за полгода) в Архангельский порт было отправлено 35 тыс. пуд. пеньки; за 4 года до этого, в 1662 г., через Архангельск было вывезено 199 153 пуд. пеньки. На экспорт шло не только волокно и пряжа, но и ткань: в середине XVII в. через Архангельск вывозилось 157,5 тыс. аршин холста, в 70-е гг. здесь же продавалось по 30 тыс. аршин льняных тканей. В петровские времена торговля льном, а также изделиями из него достигала огромных масштабов. В 1717 г. в Архангельске для экспортной торговли имелось 4 158 738 аршин льняных материй; в 1718 г. здесь было 3 016 890 аршин. В 1719 г. в Санкт-Петербургском порту для заморского отпуска имелось 707 697 аршин холста и полотна, в Архангельском - 4 285 427 аршин, в Выборгском - 1700 аршин, в Нарвском - 162 тюка и 31 135 концов; всего 4 996 824 аршина, 162 тюка и 31 135 концов (а ведь, кроме того, продажа шла через Ригу и Ревель, и большие количества холста вывозились в Персию и Китай). В 1720 г. в Петербурге, Архангельске и Выборге было 1 348 606 аршин, в 1721 г. - 1 127 723 аршин. В 1722 г. в заморский отпуск через Петербург было предназначено 3 093 275 аршин; в 1723 г. Петербургская таможня сообщала о наличии 951 850 аршин, 44 455 концов, 46 кусков льняных тканей, 971 пуда льняной пряжи, 3456 пудов, 13 кулей и 3737 кербей (в керби содержалось десять десятков трепаного льна, в пуде - примерно 25 кербей) льна. Наряду со все увеличивавшемся экспортом льняных тканей (в 1726 г. через Петербург было вывезено 9 600 307 аршин, через Архангельск - 718 986 аршин; в 1746 - 1747 гг. через Петербург вывозилось около 2 млн аршин холста, в середине 50-х гг. через Астрахань экспортировалось до 1 млн аршин в год), за море шел и полуфабрикат - трепаный лен и пряжа. В 1724 г. в столице на вывоз имелось 2041 пуд. льняной пряжи (этого было достаточно для производства 163 тыс. аршин холста). В 1717-1719 гг. среднегодовой вывоз льна через Архангельск составлял 86 068 пуд., из Петербурга в 1718 г. было вывезено 3040 пуд. В 1726 г. совокупный отпуск льна через Петербург и Архангельск составил 59 424 пуд.; в 1749 г. на экспорт было отправлено 501 643 пуд. льна и 62 075 пуд. льняной пакли, в 1758-1760 гг. среднегодовой вывоз льна составил 547 831 пуд., льняной пакли - 17 887 пуд. В 1761 г. в Петербург водным путем было доставлено 87 010 пуд. льна-волокна; средние же цифры вывоза за 17581762 гг. равнялись 671 104 пуд.
Немалыми также были объемы вывоза пеньки, поскони и парусины. В 1719 г. в петербургской таможне в отпуску значилось 26 150 аршин поскони, в 1720 г. - 291 534 аршина поскони, в 1723 г. -1399 кусков парусины, 67 487 пуд. и 59 бунтов пеньки, 928 пудов пеньковой пряжи (при этом удельный вес продаваемой казной пеньки, несмотря на существовавшую монополию, составлял, по некоторым данным, не более 25%). Пеньки через Архангельск в 1710 г. было вывезено 788 846 пуд., в 1717-1719 гг. среднегодовой отпуск составлял здесь 459 253 пуд., в 1721 г. было вывезено 456 717 пуд.
(часть отпуска взяли на себя в это время балтийские порты: из Петербурга в 1718 г. было вывезено 154 184 пуд., в 1722 г. из Риги было отпущено 89 450 пуд. пеньки). В 1726 г. из Петербурга было вывезено 494 362 пуд. пеньки; в 1749 г. на экспорт было отправлено 1 318 928 пуд. пеньки, в 17581760 гг. среднегодовой отпуск пеньки составлял 1 936 043 пуд. (правда, 722 тыс. пуд. пеньки из этого количества составлял рижский вывоз, в котором доля русской пеньки равнялась примерно 1/5, остальная пенька была польской), пеньковой пакли - 144 937 пуд. За 26 лет между 1702 и 1751 гг. только через Архангельск и Петербург из России было вывезено 16 млн 343 тыс. пуд. пеньки. В начале 20-х гг. четыре частных мануфактуры отправляли на экспорт до полумиллиона аршин парусины в год; десятилетием позже на одной фабрике Снет-лера в Петербурге изготовлялось 20 000 пуд. канатов, шедших в основном в заморский отпуск, а с фабрики Гарднера все канаты шли за границу, так что в 1749 г. на экспорт отправилось 30 000 пуд. канатов и веревок, в 1758-1760 гг. - по 24 301 пуд. В 1762 г. в России действовали 34 канатных фабрики, производившие в среднем от 500 до 5000 пуд. канатов в год, соответственно, совокупный выпуск равнялся приблизительно 70-80 тыс. пуд. В 17451755 гг. Россия экспортировала пеньки в среднем на 1083 тыс. руб. в год, что составляло 29% всего российского экспорта (для сравнения: железа в тот же период вывозилось в среднем на 408 тыс. руб. в год, что составляло лишь 10% от всего объема экспорта). В середине 60-х гг. XVIII в. только из Пскова к балтийским портам отправлялось пеньки и льна на 140 тыс. руб. в год. Парусины, вместе с фламскими полотнами и равендуками (льняными тканями), в 1758-1762 гг. вывозилось в среднем по 77 374 куска в год. Кусок парусины по указу 1722 г. имел 50 арш. длины и 1 арш. ширины, вывоз парусины в 1749 г. достигал 36 190 кусков, в 1758-1760 гг. - в среднем 35 102 куска, т.е., соответственно, 1 809 500 и 1 755 100 аршин в год. Интересно, что на экспорт шла буквально львиная доля всех произведенных на отечественных полотняных мануфактурах льняных и пеньковых тканей. Так, в 1761 г. из 32 тыс. кусков произведенного равендушного полотна было экспортировано 28 тыс., из 14 тыс. кусков фламского - 13 тыс., из 44 тыс. кусков каламеночного - 33 тыс., из 40 тыс. кусков парусного - 35 тыс. кусков, так что из 6,94 млн аршин полотен фабричной выработки в стране осталось 1,16 млн арш., т.е. 16,7%; так же как и в металлургии, мануфактурная продукция в этом случае отправлялась на экспорт, а внутреннее потребление обеспечивалось кустарной и домашней промышленностью [7, с. 21-24, 29, 36, 418-434].
Гораздо больше холста и других продуктов обработки прядильного сырья обращалось внутри страны. Лен всегда был в изобилии на внутреннем рынке, торговые операции с льном и холстом значительно превосходили по объему аналогичные операции с сукном. В Ярославле в 1694-1700 гг. было 11 случаев покупки партий холста и крашенины по 20-30 тыс. аршин; в 1697 г. один покупатель приобрел 52 700 аршин, в 1698 г. была покупка 46 085 аршин ткани. Еще больше холста здесь покупалось и продавалось в первой половине XVIII века: в 1724-1726 гг. в Ярославль только из его уезда поступало в год в среднем 1,5 млн аршин. Не отставали от Ярославля и другие города и городки Верхнего Поволжья: в те же годы из Углича вывозилось в среднем 1 млн 128 тыс. аршин холста, из Кашина -285 тыс. аршин, из Бежецка - 394 тыс. аршин, из Кинешмы - 327 тыс. аршин, из Романова - 268 тыс. аршин холста. Об объеме операций с льном и пенькой в Верхнем Поволжье и северо-западных провинциях дают представление следующие цифры: в 1724-1726 гг. среднегодовой вывоз льна из Твери составлял 3229 пуд., Торжка - 2392, Старицы -656, Бежецка - 1975, Новгорода - 1318, Порхова -2110, Пскова - 58 200, Гдова - 677, Острова -3191, Опочки - 3030, Кобылья - 216,5, Вороноча -6266, Велья - 6158, Вышгорода - 3573, Заволочья - 2166, Изборска - 2457, Выбора - 2360, Врева -1020, Красного - 1580, Володимерца и Дубкова -4521,5 пуд. Всего из этих двух десятков городов и городков вывозилось в среднем 107 096 пуд. льна в год. Весьма значительным был и вывоз пеньки: Тверь - 11 715 пуд., Торжок - 4860, Ржев -11 920, Старица - 5900, Зубцов - 5880, Новгород -1510, Порхов - 615, Псков - 12 600, Гдов - 382, Остров - 176,5, Опочка - 452, Кобылье - 98, Воро-ноч - 1334, Велье - 897,5, Заволочье - 236, Из-борск - 142,5, Выбор - 139, Врев - 89, Красный -16,5, Володимерец и Дубков - 897,5; общее количество вывозимой пеньки равнялось 59 860,5 пуд. Таким образом, 107 тыс. пуд льна и 60 тыс. пуд. пеньки - и это только цифры вывоза. Подобные цифры можно приводить бесконечно - пенька и лен, холст и посконь были своего рода «национальными продуктами» России [8, с. 73, 85, 90, 92, 94, 110, 129, 135-142, 168, 182, 214-217].
Прядение и ткачество традиционно являлось крестьянским, причем специфически женским, занятием - сначала отраслью домашней промышленности, а потом и товарным промыслом; мужчины этим делом занимались редко (мужское ткачество распространяется уже преимущественно во второй половине XVIII века). В 1726 г. из 6885 московских цеховых ремесленников было 7 ткачей сукна, 1 суконный мочильщик, 1 прядильщик, 17 ткачей пестряди и 14 ткачей салфеток и полотна, всего 40 чел. (правда, крашенинников было 201 чел., но они, скорее всего, красили холсты деревенской выработки). Для сравнения - одних парикмахеров (не цирюльников, а специалистов по изготовлению париков) было 19 человек, а, например, сапожников -1416 чел. В 1731 г. в старой столице насчитывалось 8566 цеховых, из которых выделкой сукна занимались 8 чел., салфеток и полотна - 14 (крашенинников было 226 чел.); парикмахеров в городе было 26 чел., портных - 955, сапожников - 1546 чел. Зато прядением и ткачеством льна и шерсти в Московской губернии занималось 61,9% всего крестьянского населения (на 60-е гг. XVIII в.). И такая ситуация была характерна практически для всех губерний и уездов страны. Пряли и ткали для себя везде; товарный же промысел был развит в Псковско-Новгородской области, Ярославской, Нижегородской, Смоленской губерниях (лен и изделия из него), в черноземных уездах и Калуге (конопля); к середине XVIII в. выделились такие центры крестьянского текстильного промысла, как села Иваново, Тейково, Кохма, Щелково и др. [9, с. 384-397]
Технология и инструментарий обработки льна, конопли и шерсти были весьма развитыми и разнообразными. Основную часть времени занимали операции по подготовке сырья к прядению и само прядение: 75% трудозатрат шло на изготовление нити, 25% занимало само тканье и аппретура (отделка) ткани. Уборка льна называлась «тереблением»: лен не жали, а выдергивали с корнем вручную, чтобы не терять нижнюю часть стебля, так же содержащую волокно. Уборка льна с помощью косы существенно снижала выход и качество волокна, особенно длинного (наиболее ценного) - примерно на 15%. Теребление было весьма трудоемкой операцией: для уборки десятины требовалось от 15 до 35 человеко-дней. Затем лен сушили, расстилая на поле или в небольших снопах на поле или во дворе (иногда в закрытом помещении - избе, бане). После этого нужно было обмолотить лен, т.е. отделить семенные коробочки от стеблей и извлечь из них семена. Делали это по-разному: иногда просто молотили снопы цепом, палкой, кичигой, лапой или вальком, иногда сначала отделяли коробочки косой или с помощью специального большого гребня с деревянными или железными зубьями, через который продергивали пучок льна (очесывали). Потом льняную солому мочили, либо расстилая рядками на лугах-стлищах (росовая мочка: под действием дождя, солнца и росы получают лен-стланец, волокно которого приобретает белосеребристый цвет), либо помещая пучки льна в стоячую или проточную воду (холодноводная мочка, применявшаяся в основном в Псковской губернии, где получали лен-моченец; лучшее качество волокна давало мочение в специальных водоемах-мочилах, хуже был лен, вымоченный в проточной воде). Мочка продолжалась от 3 до 5 недель; срок ее окончания определяли пробным путем - когда древесина стебля начинала издавать треск при перегибании или когда при ударе горсти моченой соломы-тресты о поверхность воды волокно отделялось от древесины.
Для выделения чистого волокна оставалось просушить тресту и отделить волокно от оболочки-кострики, для чего тресту последовательно мяли, трепали и чесали. Для мятья применялась либо деревянная колотушка с зубцами, которой били по расстеленной соломе, либо, как правило, мялка. Мялку делали из ствола ели или березы с корневищем (два корня служили ножками), выдалбливая в нем одну или две щели, куда вставлялся деревянный брусок-било, один конец которого подвижно закреплялся. Пучок тресты клали на мялку, опускали било, стебель разминался, и большая часть кострики отделялась от волокна; в день мужчина мог помять пуд, женщина - 30 фунтов тресты. После этого волокно трепали, удаляя оставшуюся кострику и грубые частицы волокна-отрепья: это делали деревянным ножом-трепалом, ударяя им по пучку волокна. Последняя стадия очистки - чесание: волокно прочесывали чесалом (деревянным гребнем) или щеткой; иногда для чесания употреблялось два гребня -большой вставлялся в скамью, на которой сидел работник, на его зубья надевали пучок волокна, а малым гребнем расчесывали последнее. Коноплю обрабатывали точно так же, как и лен, только вместо трепания иногда применялось толчение (пестом в ступе); правительственные указы (1735, 1761 гг.), призывавшие крестьян «пеньку во всех местах, где родится, жать, а не с кореньями из земли вынимать» (из волокон нижней части стебля пенька выходила худшего качества), оставались на бумаге. Шерсть, состриженную с овец пружинными ножницами, обрабатывали проще - ее промывали, разбирали руками и расчесывали гребнем (потом могли отбеливать щелоком, но обычно крестьянские сермяжные сукна сохраняли естественный цвет шерсти - серый или черный).
После этого волокно можно было прясть, т.е. изготавливать нить; пряли тремя способами - либо крутили волокно руками («верчь»), либо использовали веретено, либо применяли колесную прялку. Первым способом делали толстую нить для веревок и половиков: волокно помещали на деревянный крюк или гребень и руками вытягивали из него нитку. При втором способе кудель, т.е. пучок волокна, закрепляли на специальной подставке -палке, гребне или прялке - вертикально установленной доске, часто декоративно оформленной. Пряха левой рукой вытягивала из кудели нить (постоянно смачивая ее слюной), ее конец закреплялся на веретене - конусообразной палочке, на нижний конец которой надевался утяжелитель-пряслице; пряха вращала веретено правой рукой, скручивая тем самым нить (когда веретено достигало пола, пряжу сматывали, затем продолжали прядение). Дело это было очень долгим и трудоемким - хотя в день можно было напрясть до 300 аршин нити, обычно за неделю работы получалось 2 фунта пряжи; пряли в течение 120-140 дней, получая в итоге 30-40 фунтов пряжи.
Несколько быстрее происходило прядение на колесной прялке: веретено закреплялось горизонтально на специальной подставке и приводилось во вращение шкивом от колеса, которое вращали другой рукой; сначала выпрядали нить, потом ее сматывали. Еще быстрее дело шло на самопрялке, которая отличается от обычной колесной прялки тем, что на ней нить выпрядается и сматывается одновременно (веретено снабжается рогулькой, которой производится крутка нити, и эта нить сматывается на посаженную на ту же ось катушку; привод у самопрялки чаще всего ножной педальный). Прядение здесь идет быстрее: так, поскони можно было напрясть на веретене 1/2 фунта за день, а на самопрялке - 3/4 фунта. Считается, что колесная прялка появилась впервые в Германии в XIII веке, там же в XV в. появилась и самопрялка (впрочем, изобрели последнюю, скорее, в Италии, откуда это новшество перешло в Южную Германию). На Руси, по некоторым данным, колесные прялки появились уже в XIV-XV вв.; впрочем, распространение их было очень ограниченным. О самопрялке ничего не известно до самого конца XVII в. (Юрий Крижанич противопоставляет «немецкую» самопрялку русскому веретену: «У немцев женщины прядут на колесе, а колесо вертят ногой и прядут очень быстро — одна напрядет на колесе больше, чем трое веретенами, и поэтому они могут дешево продавать полотно. Промысел этот очень нужен и полезен, и надо, чтобы ему научились наши женщины» [10, с. 64]). В первой половине XVIII в. самопрялки начинают применяться на мануфактурах и оттуда они проникают в деревню, но очень медленно. Ответы на анкеты Вольного экономического общества 1766 г. свидетельствуют о том, что самопрялки еще не были распространены среди крестьян, так что вплоть до начала XIX в. они продолжали считаться новшеством (характерно, что в некоторых губерниях самопрялку именовали «голландкой», «шведкой» или «немкой», что, возможно, говорит о заграничном источнике ее распространения).
Намотанная на веретено пряжа называлась «початком». С этих початков пряжу сматывали в мотки - нить пропускали через отверстия палочки-юрка (его употребляли, чтобы не поранить руку и чтобы нить не спутывалась) и наматывали на крестовину-мотовило; иногда применялось мотовилобаран, представлявшее собой две крестообразные поперечины на оси, закрепленной в раме и снабженной ручкой для вращения. Затем пряжу могли отбеливать (для тканья полотна и др. тонких тканей - «белья»), для чего ее мочили в горячей воде с мылом или щелоком (обычно в горшок насыпали золу, клали моток и ставили в печь, потом промывали в воде и снова золили; всего золение продолжалось 3-4 дня). После этого пряжу надо было подготовить к тканью: часть нитей (уток) наматывалась на шпулю челнока - овальной деревянной коробочки с катушкой-цевкой, а другая часть (основа) сновалась: нити попарно разматывались на колышках, вбитых в стену, на рамочной сновалке или на специальном вращающемся барабане (при этом образовывалось два ряда нитей - четный и нечетный). После этого основу могли шлихтовать, т.е. проклеивать клейстером из ржаной муки, чтобы придать нитям крепость и гладкость.
Ткали на горизонтальном ткацком стане следующего устройства: на прямоугольной раме, состоявшей из соединенных перекладинами высоких задних и менее высоких передних стояков, укреплялись два вала-навоя; на задний наматывались нити основы, на передний - холст (по мере выработки передний навой, или пришву, проворачивали, фиксируя в одном положении деревянным клином-притужальником). На верхнюю часть рамы - понебник - крепился ремизный аппарат (иногда ремизки крепили на веревках к потолку): ремизы, или ниты, представляли собой деревянные рамки, верхняя и нижняя планки которых были связаны рядами крепких ниток, между которыми продевались нити основы. Верхняя планка нита через систему веревок и блоков прикреплялась к понебнику или потолку, а нижняя веревками была прикреплена к педалям-подножкам. Перед нитами ставилось бердо - специальный подвижный гребень, между зубьями которого проходит по две нити основы, укрепленный в качающейся раме - батане, или «набилке». Тканье заключалось в следующем: ткач нажимал ногой на одну из подножек, один ремиз опускался вниз, а другой одновременно поднимался вверх, растягивая нити основы так, что между четным рядом нитей, пропущенным через один ремиз, и нечетным, пропущенным через другой, образовывался двугранный угол - зев. В этот зев
пробрасывался челнок так, что сматывающаяся с его шпули уточная нить оказывалась между четным и нечетным рядами нитей основы. (Челнок продевался вручную: механический челнок-
самолет был изобретен в 1733 г. в Англии Джоном Кеем, но вошел в употребление только к 60-м гг. XVIII в., и то на мануфактурах, а в российской деревне это устройство стало распространяться лишь во второй половине XIX в.) Затем нажатием на другую подножку ремизки приводились в первоначальное положение, а пропущенная через нити основы уточная нить прибивалась заключенным в батане бердом к ранее проложенным уточным нитям, т.е. к уже вытканной ткани. Для обычного холста или полотна (с шахматным переплетением нитей основы и утка) использовались два нита (ремиза) и две подножки, если же делалась ткань с более сложным, узорным (саржевым) переплетением - «брань», или ткань с разноцветными утком и основой - «пестрядь», нитов и подножек могло было быть больше, до шести.
Готовый холст подвергали отбеливанию: вымачивали в воде, золили, или «бучили», т.е. парили в кадках с раствором золы, и расстилали на лугу или прямо в воде; так продолжалось несколько дней, иногда до месяца. При каждой промывке холст отбивали вальком; иногда холст отбивали (вернее, толкли) в ступе. Дело это тоже было женским; в месяц одна белильщица могла отбелить до 500 аршин. После всего этого ткань сушили и разглаживали, прокатывая на скалке рубелем - деревянным бруском с зубчатой нижней поверхностью. Холст могли окрасить с помощью растительных красителей вроде коры ольхи, яблони, крушины, березового листа и т.п., но обычно одежду изготовляли из беленого холста; грубый же холст-хрящ и посконь вовсе не белили («суровье») [11, с. 405-411].
Таким образом, становится очевидным, что производство ткани в домашних условиях, которое и не только давало основную часть потребляемого в стране текстиля, но и составляло значительную часть экспорта, представляло собой сложный многоступенчатый технологический процесс, свидетельствовавший о наличии высокой производственной культуры у сельского и городского населения России первой половины XVIII в.
аспирант кафедры истории России,
Курский государственный университет
АННОТАЦИЯ. Представлен историографический обзор периодической печати России. На типичных примерах периодических изданий подробно проанализирована историография столичной периодической печати и прессы российской провинции.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: периодическая печать, столичная и провинциальная пресса России, Курская губерния, историографический обзор.
Postgraduate Student of the Department of History,
Kursk State University
ABSTRACT. The article presents a historiographical review of Russian periodical press. The author provides a detailed analysis of the historiography of the Moscow periodical press and the press of the Russian province based on typical examples of periodicals.
KEY WORDS: periodical press, capital and provincial Russian press, Kursk province, historiographical review.
Периодическая печать в общественной жизни государства играет огромную роль. В системе средств массовой информации газеты и журналы являются мощным рычагом воздействия на общественное сознание и настроения общества. В условиях информационных войн современности актуальным является и все возрастающий интерес к информационной политике государства. Формируемое мировое медиапространство, в котором быстро создаются новые периодические издания, требует детального анализа истории отечественной периодики России.
Историография периодической печати представлена широким спектром литературы, содержащей как общие исследования, так и работы, посвященные только столичным изданиям или провинциальной периодической печати. Условно весь комплекс исследований можно разделить на несколько периодов: дореволюционный, советский и современный.
В дореволюционной России история периодической печати являлась предметом изучения немногочисленных исследователей. Только в начале XX в. был издан ряд сборников, посвященных истории периодической печати и подготовленных к ее 200-летию. Так, в 1903 г. в Москве вышел «Сборник статей по истории и статистике русской периодической печати: 1703-1903 гг.», а несколькими годами позже появилась работа «Самодержавие и печать в России» [1; 2]. Сборник открывался статьей русского книговеда и библиографа Н.М. Лисовского, который в это время работал над своим знаменитым и достаточно информативным справочником «Русская периодическая печать 1703-1900 годов», выходившим с 1895 г. четырьмя выпусками, а в полном составе изданном в 1915 г. [3].
Некоторые из дореволюционных исследований посвящены не конкретно периодической печати, а областям, смежным с историей прессы, например истории русской цензуры [4; 5]. В работах подобной тематики можно найти обширный фактический материал по истории политики государства в области цензуры и становлению цензурных учреждений, а главное - сведения о государственной политике в отношении печати. Например, в 1904 г. свет увидело исследование Н.А. Энгельгардта, однако оно не вводило в исторический оборот новых фактов [6]. В частности, автор не отмечал никаких недостатков цензуры, что, однако, не мешает почерпнуть из его работы сведения о состоянии и уровне развития прессы.
Большая заслуга в изучении вопросов о роли печати в общественно-политических движениях, в проведении правительственной политики (взаимосвязь цензурной политики и периодики) принадлежит Михаилу Константиновичу Лемке, историку, одному из основателей планомерной публикации документальных источников по русскому освободительному движению середины XIX в. [7; 8]. В его работах представлены косвенные сведения о причине закрытия известных и уважаемых периодических изданий. Так, в исследовании «Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия» он раскрывает основное содержание повременных газет и журналов, причины их закрытия, а также поводы, согласно которым они вынуждены были прекратить свое существование [9].
В дореволюционный период предпринимались исследования и по истории отдельных видов периодической печати, например сатирической прессы. Так, замечательный исследователь народного творчества, историк литературы и фольклора - Алек-
Информация для связи с автором: Aniuta.W@yandex.ru
сандр Николаевич Афанасьев - подготовил монографию «Русские сатирические журналы 17691774 гг.», которая и сейчас остается едва ли не лучшей в освещении истории периодической печати XVIII в. [10]. Эта работа вышла в 1859 г., то есть спустя примерно сто лет после возникновения сатирической печати. Афанасьев не был современником тех событий, но, вполне возможно, он общался с людьми, жившими во второй половине XVIII в. В монографии приводится обзор русских сатирических журналов третьей четверти XVIII в., а именно 1769-1774 гг., подробно рассматривается тематика сатиры того времени: политика, литература, общественная и культурная жизнь, быт и нравы людей и т.п., описываются журнальные споры.
В 1905 г. появился сборник статей В.А. Розенберга и В.Д. Якушкина [11]. Исследователи выполнили исторически точный и достаточно беспристрастный анализ положения русской периодической печати, ввели в научный оборот новые факты по развитию законодательства в отношении печати во второй половине XIX в. Позже Владимир Александрович Розенберг уже самостоятельно подготовил и выпустил еще одно исследование о развитии русской периодической печати, которое охватило обширный период [12].
Начиная с дореволюционного и уже в советский период, а именно с 1904 по 1926 гг., выходит ряд статей Михаила Степановича Ольминского - историка, публициста, литературного критика и историка литературы [13; 14; 15]. Его работы посвящены истории дореформенной печати и непосредственно ее реформированию.
Большой вклад в исследование вопроса истории периодической печати внес дореволюционный исследователь, библиограф, академик Санкт-Петербургской академии наук Петр Петрович Пекарский [16]. В своей работе он рассматривает историю русской периодической печати XVIII в. на примере первых русских журналов («Ежемесячные сочинения»), автор также пытается исследовать основные особенности становления литературных институтов XVIII в. Достаточно много внимания П.П. Пекарский уделяет роли личности в развитии периодики XVIII в.
В целом, подводя итог анализу дореволюционной историографии, отметим, что благодаря исследованиям, осуществленным в этот период времени, были заложены теоретические основы истории периодической печати XVIII-XIX вв., были раскрыты особенности возникновения, становления и эволюции периодических изданий, исследована роль личностного элемента в их деятельности. Перечисленные работы соответствовали уровню развития науки этого периода. Однако следует сказать, что авторы во многом страдали субъективностью.
Для разносторонней характеристики и составления более полной картины периодической печати нами были привлечены работы К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина, связанные с историей периодической печати и ее ролью в становлении партий Российского государства [17; 18].
В советский период появляется довольно обширная литература по истории столичной периодической печати XVIII-XIX вв. В отличие от дореволюционных исследователей, осторожно подходивших к анализу журналистской деятельности Екатерины Великой и ее «противников», историки XX в. более полно раскрывали причины начинаний императрицы, одновременно показывая реальную действительность общественной жизни указанного периода времени. Список подобных работ достаточно объемен, приведем здесь наиболее известные и авторитетные. Это, конечно же, фундаментальный труд Павла Наумовича Беркова, известного русского литературоведа, библиографа, книговеда, источниковеда, видного специалиста в области русской литературы XVIII в., под названием «История русской журналистики XVIII века» [19]. Нельзя не упомянуть и о работе Георгия Пантелеимоновича Макого-ненко «Николай Новиков и русское просвещение XVIII века» [20]. Эти исследования написаны в одно и то же время, однако, как видно из названия, содержание у них значительно разнится. Берков отдавал предпочтение журналам XVIII в. как таковым, в то время как Макогоненко исследовал влияние разносторонней деятельности Н.И. Новикова на общественную жизнь страны в целом и развитие периодической печати в частности.
Труд Беркова не только представляет собой итог исследования периодических изданий XVIII в. и сведений о них, но и в отношении тех или иных публикаций были выполнены архивные поиски. Для понимания истинной стороны журнального соперничества в те годы автор поясняет: журналы изучались не по хронологии друг за другом, а одновременно изданные выпуски различных журналов. П.Н. Беркову удалось найти множество неизвестных событий социального и писательского соперничества периодических изданий, которые дают возможность понять и более верно дать оценку общественно-политической функции периодической печати в XVIII в., определить обучающую роль публикаций Академии наук, раскрыть смысл трудов Крылова в истории сатирической периодики 1769-1774 гг. В тексте книги делаются многочисленные ссылки на периодические издания XVIII в.
Ценные сведения по истории периодической печати XVIII в. можно почерпнуть в монографии Людмилы Евдокимовны Татариновой «История русской литературы и журналистики XVIII в.» [21]. В своем исследовании автор подробно характеризует возникновение, становление и развитие периодики, ее связь с литературой. Кроме того, в монографии приводятся биографические сведения наиболее известных журналистов, писателей, публицистов, например, В.К. Тредиаковского, М.В. Ломоносова, А.П. Сумарокова, Н.И. Новикова, М.Д. Чулкова и др., показаны этапы их творческого пути, исторические условия развития периодической печати. Л.Е. Татаринова выделяет два этапа для рассмотрения сатирической периодики XVIII в.: 60-80-е гг. XVIII в. и последнее десятилетие XVIII в. По мнению автора, на первом этапе происходит становление периодики, в этот период появляется первый опыт издания повременных изданий. На втором этапе происходит «новый расцвет печати». В целом исследователь дает общую картину развития русской литературы и журналистики на протяжении XVIII в. и раскрывает творческое своеобразие отдельных видных писателей, показывая их место в историко-литературном процессе. Особое внимание уделяется раскрытию роли и значения публицистики и журналистики в формировании общественного мнения, в развитии просвещения и росте демократических настроений.
Периодическая печать XIX столетия представлена в работах В.Г. Березиной [22; 23]. Автор достаточно подробно рассматривает историю прессы первой половины века, уделяет внимание личностному элементу в развитии печати. В целом в 50-60-е гг. XX в. количество работ по истории периодики увеличивается [24; 25; 26; 27; 28]. Данные исследования выполнены в соответствии с политикой, проводимой государством в области идеологии, что, однако, не уменьшает их научной ценности и значимости для последующих поколений исследователей.
Традиции историографии 1950-1960-х гг. были продолжены и в 70-е гг. XX в. [29; 30; 31]. Исследователи поднимали различные вопросы по истории периодики, дополняя уже существующие работы.
Наибольший интерес к истории периодической печати отмечен в 80-е гг. XX в. В этот период времени появляется множество исследований советских авторов: историков, публицистов, журналистов [32; 33; 34; 35]. Подобные работы посвящены различным вопросам, связанным с историей прессы, и раскрывают разнообразные аспекты ее деятельности. Работы П.Н. Беркова, А.И. Станько, Л.Е. Татариновой, В.Г. Березиной и других авторов являются комплексными исследованиями. В них широко, в полном объеме представлена история периодической печати, ее функции и роль в жизни общества, а также роль литературной критики в истории периодических изданий.
Из специальных работ можно выделить монографию Галины Сергеевны Лапшиной «Русская пореформенная печать 70-80-х годов XIX века», в которой в краткой форме охарактеризованы газеты и журналы последней трети XIX в. [36]. История сатирического журнала «Искра» подробно представлена в монографии Г.М. Лебедевой, где автор на основе многочисленных источников дает наиболее полную характеристику данного журнала, отслеживает путь развития журнала от его возникновения в 1859 г. до закрытия в 1873 г., знакомит читателей с биографическими данными и творчеством его издателей и редакторов [37].
Обобщающим трудом по истории периодической печати является «История русской журналистики XVIII-XIX веков» под редакцией профессора А.В. Западова [38]. В данной работе подробно излагается материал о возникновении, становлении, развитии русской периодической печати. Подробная характеристика петербургских и московских журналов делает этот труд ценным для исследователя, занимающегося проблемами истории прессы, хотя есть в этой работе и некоторые недостатки, связанные с годом ее издания (1973 г.). Соавторы работы (В.Г. Березина, А.Г. Дементьев, Б.И. Есин, А.В. За-падов, Н.М. Сикорский) заметно подвержены определенной идеологии, отсюда и употребление в работе соответствующей терминологии. Однако в целом эти недостатки не умаляют достоинств исследования. В работе рассматриваются закономерности и факты развития периодической печати в «дворянский и разночинский этапы освободительного движения в России». Разделы данного исследования четко разделены по темам, периодам возникновения и развития русской периодической печати XVIII-XIX вв.
Большой вклад в изучение периодической печати внесли монографии профессора А.В. Западова, раскрывающие особенности истории и функционирования периодики в России XVIII в. [39; 40].
Большинство ученых советского периода рассматривали периодическую печать через призму определенной идеологии, уделяя больше внимания демократическому направлению печати, резко отрицательно критикуя консервативную прессу, стоявшую на позициях защиты самодержавия и монархии. Достаточно часто исследователей привлекали яркие личности редакторов, издателей, литераторов, поэтому отдельную группу составляют труды, посвященные именно этим незаурядным личностям. Тем не менее советская историография достигла определенных успехов и представила важный фактический, теоретический и практический материал по вопросам возникновения, становления и развития периодической печати.
Современные исследователи внесли свой вклад в изучение проблемы развития русской периодической печати. На сегодняшний день существует множество публикаций, изданных по данной теме, начиная с 1990-х гг. и до последнего десятилетия [41]. Однако в большинстве своем - это обобщение материала раннее изданных трудов, а также повторный анализ источников, пока не дающий принципиально нового, отличного от уже существующих мнений взгляда на периодическую печать XVIII-XIX вв. Кроме того, современные исследователи часто увлекаются изучением отдельных жанров или направлений прессы, называя ее при этом «второй древнейшей профессией» [42; 43].
Наиболее значительным исследованием на современном этапе развития историографии является работа Бориса Ивановича Есина «История русской журналистики (1703-1917)», в которой в достаточно краткой, но емкой доступной форме показана периодическая печать XVIII-XIX вв., охарактеризованы основные этапы и моменты ее развития [44]. Данный исследователь начинал свою деятельность еще в советский период. Его работы четко и широко раскрывают историю периодической печати, посвящены предпосылкам и методологическим принципам изучения русской дореволюционной печати, выяснены некоторые типологические особенности периодической печати, судьба отдельных изданий и статей [45; 46; 47]. Информативной является работа Б.И. Есина в соавторстве с И.В. Кузнецовым [48]. Данное исследование опирается на работы различных авторов, рассматривающих историю и особенности развития прессы в определенные периоды или непосредственно отдельные печатные издания.
Главные теоретические вопросы, связанные с изучением периодической печати, кратко изложены в учебных пособиях по источниковедению и историографии [49]. Так, подобные вопросы освещены в «Источниковедении Отечественной истории» под общей редакцией профессора А.Г. Голикова и других, уже самостоятельных работах этого автора [50; 51].
На современном этапе возрос интерес к нынешнему состоянию российской прессы, а история периодики изучается представителями сразу нескольких наук: исторической, филологической, юридической, культурологической. Для изучения истории периодической печати могут быть использованы собрания сочинений, позволяющие более полно раскрыть ее значение и функции, рассмотреть влияние прессы на общественное мнение и общество в целом [52; 53]. Так, в подобных собраниях сочинений представлены статьи и работы непосредственных сотрудников столичных периодических изданий XVIII-XIX вв., прежде всего редакторов, а также писателей и литературных критиков, сотрудничающих с органами столичной периодики, журналистов [54; 55; 56; 57; 58; 59].
Вместе с тем, несмотря на обширность исследований по истории периодической печати XVIII-XIX вв. в общероссийском масштабе, существенную трудность представляет практически полное отсутствие работ на уровне регионов. В рамках Курской губернии количество подобных трудов незначительно и не представлено комплексными исследованиями. В трудах немногочисленных авторов затрагиваются лишь отдельные вопросы периодики. На дореволюционном этапе - это работы курского историка и краеведа А.А. Танкова [60]. Его исследования наиболее четко и широко раскрывают историю провинциальной курской периодической печати, особенно газеты «Курские губернские ведомости». Советский период исследований представлен лишь общими работами, в основном разрозненными статьями по истории периодической печати Центрально-Черноземного региона, собранными в одном сборнике, в этих статьях курская периодика затрагивается частично и не в полном объеме [61].
На современном этапе интерес к истории провинциальной курской прессы значительно вырос. Информативными являются статьи Дины Викторовны Силаковой, раскрывающие особенности истории и функционирования периодики в Курской губернии XIX в. [62]. Кроме того, представлены работы И.Т. Шатохина «Роль «Курских губернских ведомостей» в функционировании культурной жизни Курска в конце XIX века» и В.И. Склярука «Архив газеты "Курский листок"», в которых представлена история некоторых аспектов отдельных газет, их функции и роль в жизни общества, а также роль литературной критики в жизни периодических изданий [63; 64].
В некоторых работах освещается роль печати в общественно-политических движениях, в проведении правительственной политики, в формировании социальных групп. Подобным исследованием является труд Т.Л. Кононовой «Издательское дело в Курском регионе: основные проблемы и тенденции развития», в котором подробно рассматривается история и развитие издательского дела в регионе [65]. В другой статье автор рассматривает развитие периодической печати в Курской губернии, начиная с XIX в. и до начала XX в. [66].
Появились специальные исследования по смежным с периодической печатью областям, например по истории цензуры. В статьях по истории цензуры наряду со становлением и развитием цензуры и ее органов рассматриваются периодические издания, в отношении которых они действовали [67]. Так, история становления и развития цензуры в Курской губернии подробно представлена в работах Анны Александровны Белобородовой [68].
По истории периодической печати Курского края имеются различные справочные, словарные, энциклопедические издания, содержащие информацию как по истории курской печати в целом, так и по отдельным печатным органам, а также библиографические словари [69; 70].
Из представленного историографического обзора видно, что столичной периодической печати посвящены достаточно обстоятельные исследования. В настоящее время существует большое количество работ, изучающих различные аспекты истории столичной периодической печати XVIII-XIX вв., ее возникновение, становление, развитие, роль в общественно-политических движениях, в проведении правительственной политики, в формировании социальных групп и развитии истории России в целом. Однако в отношении курской провинциальной прессы большинство исследователей заняты изучением вопросов истории становления и развития цензуры Курской губернии, выявлением роли губернских изданий в культурной жизни Курского края, составлением библиографических словарей и справочников и т.д. Провинциальная печать Курской губернии XIX в. отмечена в исследованиях ученых как находившаяся в стадии становления, использовавшая передовые идеи столичной прессы, занимавшаяся созданием новых печатных органов. Местные издания этого периода времени совершенствовали содержание публикаций, расширяли жанровое разнообразие публикуемого материала и т.п. В целом на фоне большого количества исследований различных аспектов столичной печати история курских изданий представлена слабее.
19. Берков, П.Н. История русской журналистики XVIII века [Текст] / П.Н. Берков. - Л., 1952.
20. Макогоненко, Г.П. Николай Новиков и русское просвещение XVIII века [Текст] / Г.П. Макогоненко. - М.; Л., 1951.
21. Татаринова, Л.Е. История русской литературы и журналистики XVIII в. [Текст] / Л.Е. Татаринова. - М., 1975.
22. Березина, В.Г. Белинский - журналист (Теория. История. Практика) [Текст] / В.Г. Березина. - СПб., 2005.
23. Березина, В.Г. Русская журналистика первой четверти XIX века [Текст] / В.Г. Березина. - Л., 1965.
24. Масанов, И.Ф. Словарь псевдонимов : в 4 т. [Текст] / И.Ф. Масанов. - М., 1958-1960.
25. Орлов, В.Н. Русские просветители 1790-1800 годов [Текст] / В.Н. Орлов. - М., 1953.
26. Из истории русской журналистики : сборник [Текст]. - М., 1959.
27. Кузнецов, Ф.Ф. Русское слово : журнал [Текст] / Ф.Ф. Кузнецов. - М., 1965.
28. Теплинский, М.В. Отечественные записки. 1868-1884. История журнала. Литературная критика [Текст] / М.В. Теплинский. - Южно-Сахалинск, 1966.
29. Нечаева, B.C. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Время», 1861-1863 [Текст] / В.С. Нечаева. - М., 1972.
30. Прохоров, Е.П. В.Г. Белинский [Текст] / Е.П. Прохоров. - М., 1978.
31. Турков, A.M. M.E. Салтыков-Щедрин [Текст] / А.М. Турков. - М., 1979.
32. Горячкина, М.С. Салтыков-Щедрин и русская демократическая литература [Текст] / М.С. Горячкина. -Л., 1980.
33. Татаринова, Л.Е. А.И. Герцен [Текст] / Л.Е. Татаринова. - М., 1980.
34. Емельянов, Н.П. «Отечественные записки» Н.А. Некрасова (1868-1884) [Текст] / Н.П. Емельянов. - Л., 1986.
35. Эйдельман, Н.Я. Герцен против самодержавия [Текст] / Н.Я. Эйдельман. - М., 1984.
36. Лапшина, Г.С. Русская пореформенная печать 70-80-х годов XIX века [Текст] / Г.С. Лапшина. - М., 1985.
37. Лебедева, Г.М. Сатирический журнал «Искра» [Текст] / Г.М. Лебедева. - М., 1959.
38. История русской журналистики XVIII-XIX веков [Текст] / под ред. А.В. Западова. - М., 1973.
39. Западов, А.В. Русская журналистика 1769-1774 годов [Текст] / А.В. Западов. - М., 1959.
40. Западов, А.В. Русская журналистика последней четверти XVIII века [Текст] / А.В. Западов. - М., 1962.
41. Левандовский, А.А. Время Грановского [Текст] / А.А. Левандовский. - М., 1990.
42. Система средств массовой информации России [Текст] / под ред. Я.Н. Засурского. - М., 2001.
43. Аграновский, В.А. Вторая древнейшая. Беседы о журналистике [Текст] / В.А. Аграновский. - М., 1999.
44. Есин, Б.И. История русской журналистики (1703-1917) [Текст] / Б.И. Есин. - М., 2000.
45. Есин, Б.И. Демократический журнал «Дело» [Текст] / Б.И. Есин. - М., 1959.
46. Есин, Б.И. Русская газета и газетное дело в России (задачи и теоретико-методологические принципы изучения) [Текст] / Б.И. Есин. - М., 1981.
47. Есин, Б.И. История русской журналистики XVIII-XIX вв. [Текст] / Б.И. Есин. - М., 1973.
48. Есин, Б.И. Три века московской журналистики [Текст] / Б.И. Есин, И.В. Кузнецов. - М., 1997.
49. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории [Текст] / И.Н. Данилевский [и др.]. - М., 1998.
50. Голиков, А.Г. Архивоведение отечественной истории [Текст] / А.Г. Голиков. - М., 2005.
51. Голиков, А.Г. Источниковедение Отечественной истории [Текст] / А.Г. Голиков, Т.А. Круглова. - М., 2008.
52. Гиляровский, В.А. Москва газетная [Текст] / В.А. Гиляровский // Собр. соч. : в 4 т. / В.А. Гиляровский.
- М., 1989.
53. Белинский, В.Г. Полн. собр. соч. : в 13 т. [Текст] / В.Г. Белинский. - М., 1953.
54. Белинский, В.Г. Взгляд на русскую литературу 1847 года [Текст] / В.Г. Белинский // Полн. собр. соч. : в 13 т. / В.Г. Белинский. - М., 1955. - Т. 7. - С. 279-359.
55. Добролюбов, Н.А. Литературные мелочи прошлого года [Текст] / Н.А. Добролюбов // Собр. соч. : в 9 т. / Н.А. Добролюбов. - М.; Л., 1962. - Т. 4. - С. 48-112.
56. Добролюбов, Н.А. Русская сатира екатерининского времени [Текст] / Н.А. Добролюбов // Собр. соч. : в 9 т. / Н.А. Добролюбов. - М.; Л., 1962. - Т. 5. - С. 314-401.
57. Писарев, Д.И. Московские мыслители [Текст] / Д.И. Писарев // Соч. : в 4 т. / Д.И. Писарев. - М., 1955.
- Т. I. - C. 274-319.
58. Пушкин, А.С. О журнальной критике [Текст] / А.С. Пушкин // Полн. собр. соч. : в 10 т. / А.С. Пушкин.
- М., 1976. - Т. 6. - С. 139-146.
59. Чернышевский, Н.Г. Новые периодические издания [Текст] / Н.Г. Чернышевский // Полн. собр. соч. : в 16 т. / Н.Г. Чернышевский. - М., 1950. - Т. 7. - С. 934-956.
60. Танков, А.А. Указатель важнейших статей, помещенных в Курских губернских ведомостях с 1839 по 1900 год [Текст] / А.А. Танков // Труды Курской губернской ученой комиссии. - Курск, 1915. - Вып. II.
- С. 112-147.
61. Газета, читатель, жизнь : статьи и очерки [Текст]. - Воронеж, 1971.
62. Силакова, Д.В. Особенности жанрово-тематической структуры газеты «Курские епархиальные ведомости» в период с 1871 по 1917 гг. [Текст] / Д.В. Силакова // Труды III Международной научной конференции «Актуальные проблемы регионоведения». - Курск, 2008. - Ч. 2. - С. 74-77.
63. Шатохин, И.Т. Роль «Курских губернских ведомостей» в функционировании культурной жизни Курска в конце XIX века [Текст] / И.Т. Шатохин // Культура в истории России: прошлое и современность. -Курск, 2001. - С. 273-275.
64. Склярук, В.И. Архив газеты «Курский листок» [Текст] / В.И. Склярук // Культура и интеллигенция Курского края через призму исторического опыта России. - Курск, 2011. - С. 35-40.
65. Кононова, Т.Л. Издательское дело в Курском регионе: основные проблемы и тенденции развития [Текст] / Т.Л. Кононова. - Курск, 2009. - 109 с.
66. Кононова, Т.Л. Развитие периодической печати в Курской губернии (XIX - начало XX в.) [Текст] / Т.Л. Кононова // Наука вчера, сегодня, завтра : материалы III Международной заочной научнопрактической конференции (21 августа 2013 г.). - Новосибирск, 2013. - С. 37-46.
67. Салтык, Г.А. Из истории борьбы курской городской и уездной полиции «за чистоту нравственности» [Текст] / Г.А. Салтык // Курский край. - Курск, 2004. - № 3-4. - С. 36-38.
68. Белобородова, А.А. Становление и развитие цензурных учреждений в Курской губернии во второй половине XIX - начале XX вв. : автореф. дис. ... канд. ист. наук [Текст] / А.А. Белобородова. - Курск, 2007.
69. Курская энциклопедия [Текст] / сост. Ш.Р. Гойзман. - Курск, 2004-2014.
70. Курск: Краеведческий словарь-справочник [Текст] / под ред. Ю.А. Бугрова. - Курск, 1997.
аспирант кафедры истории России;
доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России,
Воронежский государственный педагогический университет
АННОТАЦИЯ. Анализируется развитие военного искусства русского генералитета в первой четверти XIX в. Высший военный состав русской армии применял новые формы стратегии и тактики в войнах с Францией, Османской империей, Швецией и Ираном. Они в совокупности с дипломатическими усилиями сыграли огромную роль в выполнении внешнеполитических задач Российской империи.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: русский генералитет, тактика, стратегия, военная дипломатия.
Postgraduate Student of the Department of Russian History;
Dr. Hist. Sci., Professor of the Department of Russian History,
Voronezh State Pedagogical University
ABSTRACT. The article analyzes the development of military art of Russian generals in the first quarter of the XIX-th century. Supreme military staff of the Russian army implemented new forms of strategy and tactics in the wars with France, the Ottoman Empire, Sweden and Iran. Coupled with diplomatic efforts, they played a tremendous role in pursuing foreign policy objectives of the Russian Empire.
KEY WORDS: Russian generals, tactics, strategy, military diplomacy.
Впервой четверти XIX в. Россия, отстаивая свои интересы, проводила активную внешнюю политику, вынужденно участвуя во многих войнах, итоги которых во многом зависели от военного искусства. Изучение и анализ военного искусства русского генералитета является важным аспектом русской истории. В настоящий момент существуют дореволюционные [1], советские [2] и современные исследования [3] данной проблемы. Но в них лишь в обзорном формате рассматривается развитие русского полководческого искусства. Малоизученными вопросами остаются: источники формирования военного искусства, состояние дипломатических, стратегических и тактических навыков высшего командного состава. Цель данной статьи заключается в изучении общей картины развития военного искусства, а именно стратегии, тактики и военной дипломатии. Инженерное и фортификационное искусство нами не рассматривалось.
Работа подготовлена на основании опубликованных и архивных источников, в частности материалов следующих изданий: «Хроника Кавказских
войск», «Акты, документы и материалы для политической и бытовой истории 1812 года» (тт. 2-3), «М.И. Кутузов. Сборник документов. 1808-1812», а также личного фонда И-83 генерала от инфантерии А.Я. Рудзевича, находящегося в Государственном архиве Воронежской области (ГАВО). Из опубликованных материалов использовались документы, характеризующие дипломатические, стратегические и тактические способности русского генералитета. Мемуарная литература [4; 5] способствовала выявлению стратегических и тактических замыслов французской и русской сторон. В личном фонде генерала А.Я. Рудзевича содержится «План военных действий, составленный генералом Беннигсе-ном в феврале 1811 г.», позволяющий проанализировать вариант превентивной войны с Наполеоном.
В многочисленных войнах Российской империи против Франции, Османской империи, Швеции и Ирана многое зависело от правильно выбранной стратегии. Следует отметить неразрывность достижения дипломатических целей и выбора адекватных им способов применения вооруженных сил. Как область практической деятельности стратегия занимается решением стратегических задач и определением необходимых для их выполнения сил и средств, разработкой и осуществлением мероприятий, связанных с подготовкой вооруженных сил, театров военных действий, экономики и населения страны к войне; планированием войны и стратегических операций; организацией развертывания армий и руководства ими при ведении операций стратегического масштаба, а также изучением возможностей противника [3, с. 7]. Все вышеперечисленное учитывалось русским высшим командованием в
Информация для связи с автором: antonscherb@yandex.ru
многочисленных войнах России в первой четверти XIX в.
Основы военной стратегии начала XIX в. были заложены еще во времена Петровской эпохи. После введения рекрутской повинности и создания регулярной армии началось совершенствование русского военного искусства. В течение всего XVIII в. постепенно складывалась военно-теоретическая школа, учитывавшая новшества Румянцева и Суворова. Основные ее положения заключались в следующем:
1) реализовывался на практике принцип связи политики и войны (раз война началась, то все усилия необходимо направить на ее победоносное окончание) [6, с. 30];
2) активные и целеустремленные действия с учетом характера войны, особенностей противника и местности;
3) главная цель в войне - разгром живой силы неприятеля (всей армии) в генеральном (полевом) сражении (а не вытеснение сил противника с территории государства, как это было в XVI-XVII вв.) и отказ от долговременных осад крепостей (которые затягивали ход войны и позволяли противнику подготовиться к новому противостоянию);
4) основной вид военных действий - наступление (вынужденная оборона только в крайних случаях, например для подготовки к наступлению);
5) «суворовский способ решения стратегических задач» - система нескольких последовательных ударов, направленных на поочередное уничтожение противника. Для успешного применения такого способа полководцу необходимо было выбрать наиболее слабую группировку противника для разгрома, умело применять маневр, концентрировать силы и средства для решающего удара по противнику с достижением стратегической и тактической внезапности. После разгрома армии противника далее необходимо захватить политические и экономические центры страны и добиться капитуляции [3, с. 75-76].
Так называемый «суворовский способ решения стратегических задач» стал базой для дальнейшего совершенствования русского военного искусства [7, с. 324]. На его основе формируется плеяда «суворовских учеников»: М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Д.С. Дохтуров, А.И. Остерман-Толстой и др., которые стали носителями победоносной стратегии в войнах начала XIX в. В период правления Павла I, ярого поклонника Фридриха II и его устаревшей военной системы, на первое место выходит внешняя сторона военного дела. Обычным становится обучение солдат «немецкой стойки и выправки», необходимых для красоты столь любимых императором вахтпарадов. Приходится признать, что все военные мероприятия Павла I (за исключением улучшения быта военных, преобразований в артиллерии) отбрасывали русскую армию на полвека назад, в том числе и в развитии стратегического мышления.
С приходом к власти Александра I меняется военная парадигма. Намечается отход от «прусской военной школы», и русский генералитет начинает обращать внимание на французскую военную систему. Еще К. Симанский в начале XX в. доказал, что «Наставление гг. пехотным офицерам в день сражения», распространяемое П.И. Багратионом среди 2-й армии (и используемое в составлении пехотного устава 1816 г.), было переделкой «Наставления гг. пехотным офицерам Нарвского пехотного полка» М.С. Воронцова, которое было переводом «правил для французской армии, составленным императором Наполеоном» [8, с. 73]. Кавалерийское наставление Д.В. Голицына не что иное, как переработка французского кавалерийского устава 1801 г. [8, с. 75]. Налицо попытка внедрить основы французского военного искусства в русскую среду.
Анализ военной стратегии эпохи Александра I показывает, что антифранцузские коалиции 1805 и 1806-1807 гг. не могли оказать Наполеону должного сопротивления ввиду несогласованности действий на всех уровнях. Каждая страна (Австрия, Пруссия) стремилась учитывать и выполнять только свои внешнеполитические цели и задачи. Не способствовал успеху и военный план коалиции, предложенный австрийским генеральным штабом. Принципы кордонной стратегии - прикрытие жизненно важных центров страны и маневрирование на коммуникациях противника - не соответствовали духу времени. Наполеон использовал более совершенные приемы новой стратегии: маневр на театре войны, стратегический обход флангов, стремление решить судьбу кампании в одном генеральном сражении с полным разгромом войск противника. Показателем ее преимущества стало сражение под Аустерлицем [9, с. 34], где концентрированный удар группировки французов в центр союзного войска не смогли сдержать русские солдаты на Праценских высотах. По этой причине антифранцузская коалиция потерпела поражение. Единственный, кто смог предугадать действия Наполеона, был М.И. Кутузов, но у него не было полномочий главнокомандующего, поэтому он ничего сделать не смог. На следующий год ситуация не изменилась. Новая антифранцузская коалиция (Англия, Пруссия, Россия, Швеция, Саксония) ничего коренного не изменила на военнополитической карте Европе.
После разгрома Пруссии под Йеной и Ауэрштед-том единственным противником Наполеона оставалась Россия, которая вела в это время войны с Турцией и Ираном одновременно. Французский император рассчитывал в Восточной Пруссии осуществить «блицкриг по-французски» и уничтожить в одном или нескольких генеральных сражениях русскую армию, тем самым подчинив цели и задачи внешней политики Российской империи своим интересам. Но сражения под Пултуском и Прейсиш-Эйлау не привели к разгрому русской армии, и Наполеон понимал, что перед ним достойный противник. Под Фридляндом русская армия из-за допущенных ошибок ее командующего Беннигсена (нерешительность и потеря инициативы) чуть не потерпела крупное поражение, но благодаря самоотверженности русских офицеров и солдат смогла переправиться через мосты и спастись [9, с. 79]. Главной причиной неудач России являлась война на нескольких фронтах (на Кавказе, на Дунае и Восточной Пруссии) и невозможность сконцентрировать силы на главном направлении. Кроме того, поражение под Аустерлицем и репутация Наполеона как непобедимого полководца усиливали нерешимость и скованность русских генералов. В целом внешнеполитическая ситуация в Европе благополучно складывалась в пользу Франции: заключение мира в Тильзите, континентальная блокада Англии и насильственное превращение Австрии и Пруссии в своих союзников.
В ходе войны против Турции и Ирана Россия достигла больших результатов, несмотря на второстепенность данного направления и ограниченность ресурсов. Противники России рассчитывали в военном союзе нанести поражение на Балканах и Кавказе. Но русские войска разбили превосходящие силы турок и иранцев, а флот смог одержать победу в Дарданельском и Афонском сражениях. Прибытие Кутузова на данный театр военных действий значительно изменило ситуацию. Дело в том, что затягивание военных действий отрицательно сказывалось на подготовке России к новой войне с Францией. Поэтому главная задача нового главнокомандующего заключалась в нанесении туркам сильных ударов, чтобы заставить их подписать военный мир. Рассматривая военные действия Кутузова на Дунае, необходимо отметить окружение турецкой армии под Слободзеей [10, с. 167]. Стратегический маневр дал возможность тактически окружить превосходящего по силе противника: умелый выбор позиции и усиление ее в инженерном отношении обеспечили систему концентрического обстрела из орудий. В целом быстрые и решительные действия Кутузова позволили закончить войну с Турцией до начала Отечественной войны.
Военные действия против Ирана велись более ограниченными силами [11, с. 37-39], поэтому операции носили эпизодический характер. Здесь следует выделить две победы, одержанные командующим Котляревским под Асландусом и в Ленкорани, подорвавших военные силы Ирана. Фактически быстрыми и решительными мерами при наличии малых сил (за всю войну силы России в данном регионе не превышали 20 тыс. человек) в декабре 1812 г. русская армия уничтожила лучшие иранские войска.
Война России со Швецией в стратегическом отношении значительно отличалась от боевых действий на других театрах. На военное искусство здесь повлияли географические условия местности, которые вынуждали действовать отдельными группами. При этом роль главнокомандующего значительно снижалась. Общие цели войны необходимо было выполнить за счет самостоятельных действий отдельных военачальников, которые проявляли разумную инициативу и несли за нее ответственность. Военные действия носили наступательный характер и осуществлялись быстрыми темпами во избежание попыток противника перехватить инициативу. Наступление велось по фронту или во фланг, обходными колоннами. Огромное влияние в данной кампании имело снабжение войск, которое оставляло желать лучшего. Неудовлетворительная организация тыла привела к тому, что войска постоянно испытывали недостаток в боеприпасах и продовольствии [9, с. 62]. Тем не менее стратегия решительных мер, маневров с целью нанесения противнику поражения в ряде полевых сражений способствовала отходу от канонов кордонной стратегии и общей победе.
Кульминацией развития русской стратегии в первой четверти XIX в. являются Отечественная война 1812 г. и заграничные походы русской армии 1813-1814 гг.
Русский император накануне войны принял решение не идти с Наполеоном ни на какие компромиссы. С 1810 г. активно разрабатывалось и рассматривалось несколько вариантов войны. Еще в феврале 1811 г. генерал Беннигсен в своем плане военных действий рассуждал о будущем характере войны: «В сем отношении, во-первых, должно определить, в тот час ли Россия поведет наступательную, или некоторые политические соображения заставят ее на первый случай остановиться на войне оборонительной» [12, л. 2]. В условиях продолжавшейся войны с Турцией и Ираном, а также сохраняющейся военной угрозы со стороны Швеции генерал говорил о неэффективности оборонительной войны ввиду огромной протяженности границ «от устья Немана... до самого Днестра» [12, л. 2]. Кроме того, численность русских войск должна тогда быть около 320 тыс. человек: на «абсервационную армию против шведов» - 30 тыс. человек; 120 тыс. человек должны располагаться от Литвы до Смоленска; одновременно 40 тыс. человек необходимо для прикрытия «Курляндии и Финляндии»; «в Крыму необходимо иметь 80 тыс. человек для защиты Киева» и 50 тыс. «в Молдавии и Валахии» [12, л. 3]. Исходя из своей оценки, Беннигсен предлагал вести против Наполеона наступательную войну. Он считал, что французские силы насчитывают от 75 тыс. до 90 тыс. человек (силы распылены по всей Европе) и поэтому России достаточно 169 тыс. человек для похода [12, л. 7]. Кроме того, Пруссия и Австрия должны выступить союзниками России, в противном случае они будут воевать против нее (Наполеон силой сделает их своими союзниками). Генерал Беннигсен предлагал превентивную войну против Франции, но за год политическая обстановка в мире значительно изменились (Франция доминировала на континенте), численность войск была в пользу Франции, да и Пруссия с Австрией, как и ранее, скорее всего, долго бы колебались в отношении новой коалиции с Россией. Для российской стороны наступательные действия против Наполеона стали опасными.
В 1812 г. первоначальный официальный стратегический план войны с наполеоновской Францией подготовил военный советник императора генерал Фуль. В случае наступления французской армии на Вильно или Гродно, у Дриссы (район Западной Двины), предполагалось создание большого укрепленного лагеря, заняв который, 1-я армия сможет сдерживать противника с фронта. В свою очередь 2я армия должна действовать во фланг и тыл французов. Проект остался нереализованным, так как позиция на Дриссе имела слабые укрепления.
Второй стратегический план, отстаиваемый военным министром М.Б. Барклаем-де-Толли, основывался на активной обороне - планомерное отступление с боями вглубь страны под натиском превосходящих сил противника с целью его изматывания, истощения и ликвидации его численного превосходства [5, с. 14-15]. В конечном итоге предполагалось в генеральном сражение нанести противнику поражение. При отступлении русская армия использовала тактику «выжженной земли»: «.меры о немедленном вывозе казны и провиантских запасов далее внутрь России, буде же чего не можно будет спасти . то предать истреблению . дабы неприятель нигде и ничем не мог пользоваться» [13, с. 67]. Как показал ход войны, этот впервые предложенный комбинированный вариант был более эффективен и безопасен для русской армии.
В ходе Отечественной войны 1812 г. можно выделить два этапа. На первом этапе (с 12 июня до середины октября) стратегический замысел заключался в том, чтобы, отступая, русская армия с арьергардными боями заманивала противника вглубь страны с целью срыва его первоначального плана. Русской армии необходимо выполнить две важные задачи - соединить силы 2-х русских армий и установить единоначалие (армии соединились под Смоленском, главнокомандующим стал М.И. Кутузов). Второй (с середины октября до 25 декабря) -контрнаступление русской армии и преследование противника с целью его полного уничтожения. В основе лежала стратегия параллельного преследования противника по разоренной им же дороге. Французы были разгромлены в ходе последовательного контрнаступления. Стратегии Наполеона, основанной на разгроме армии противника в генеральном сражении, Кутузов противопоставил стратегию, которая включала в себя разнообразные формы борьбы, отступление в сочетании с отдельными сражениями, стратегический маневр на главном театре военных действий, активная оборона с последующим переходом в контрнаступление, стратегическое преследование. Впервые в истории войн действия партизан включались в общестратегический план войны и содействовали быстрейшему его выполнению (комбинированный вариант контрнаступления).
Изгнание французов из России не означало окончание войны с Наполеоном. Он по-прежнему являлся господином почти всей Европы и вынашивал гегемонистские планы. Для полной ликвидации угрозы со стороны Франции, Россия возглавила борьбу европейских государств с французским господством. В январе 1813 г. русские войска вступили на территорию Польши и Пруссии. Разумеется, как только «ослаб Наполеон», военными союзниками России сразу стали Пруссия, Австрия, Англия и Швеция. Большое влияние на ход заграничного похода оказала смерть М.И. Кутузова - признанного главнокомандующего союзными армиями. Тем не менее в октябре 1813 г. произошла битва под Лейпцигом, в которой принимала участие фактически вся Европа. Наполеон потерпел полное поражение и в результате были освобождены германские государства. В марте 1814 г. взят Париж [9, с. 153154]. Наполеон в войне 1813-1814 гг. допустил ряд просчетов. Стремясь удержать в повиновении всю Центральную Европу, французский император оставил в германских крепостях крупные гарнизоны и тем самым ослабил свои главные силы (расчет на задержку гарнизонами главных сил союзников). А в это время военный потенциал союзников стал превышать возможности французов. Наполеон не понимал, что истощенная Франция не сможет продолжать борьбу. Кроме того, он считал, что тактическая победа сможет изменить стратегическую ситуацию в корне и поэтому не стал организовывать народную войну. Главные ударные силы союзников старались не задерживаться в осадах германских городов, предоставляя их народному ополчению. В целом стратегия союзников не отличалась ни оригинальностью идей, ни исполнением. Союзники вели войну на истощение. Главнокомандующие при осуществлении стратегических замыслов отличались робостью, так как еще боялись Наполеона, который много раз выходил победителем из безвыходных ситуаций. Также военные союзники России не хотели ее усиления после разгрома Франции и стремились к подписанию мира с Наполеоном. Только вмешательство императора Александра и усилия русских полководцев способствовали победоносному окончанию войны. В результате побед русского оружия Россия стала во главе вновь создаваемого европейского порядка.
Важной составляющей военного искусства является тактика. В первой четверти XIX в. русский генералитет и высший офицерский состав постепенно отказывается от линейной тактики и переходит на тактику колонн и рассыпного строя. Линейная тактика получила распространение в XVII -начале XIX вв. в связи с принятием нового огнестрельного оружия и увеличением роли огня в бою. Войсковые соединения для ведения боя выстраивались в линию, состоящую из нескольких шеренг (зависело от скорострельности оружия), что позволяло в один момент открывать огонь из наибольшего количества орудий. В результате фронтального столкновения исход боя решала мощь пехотного огня. В связи с изменением военной стратегии на рубеже XVIII-XIX вв. выявились отрицательные стороны боевого порядка [14, с. 203-204]:
1) на решающем участке сражения нельзя сосредоточить превосходящие силы;
2) войска действовали только на равнинной местности;
3) линейная пехота была неподвижной и не могла осуществлять маневры, отсюда ввиду слабости флангов решающее значение имела кавалерия.
Тактика колонн и рассыпного строя имеет точно противоположные характеристики. Малоподвижная линейная пехота превращалась в легкую, быстро рассыпалась, могла использовать укрытия, занимала дома в населенных пунктах. Первоначально офицеры с трудом сохраняли боевой строй и дисциплину, ведь укрытия расслабляли бойцов, и крайне трудно было поднять их в бой. Теперь в бою все зависело от авторитета офицеров и индивидуального сознания бойца (а не от палочной дисциплины). У офицеров оставалось лишь одно средство - это собирать бойцов в колонны. Колонна, по сравнению с рассыпным строем, имела иные характеристики. Каждый солдат в колонне чувствовал себя сильнее, задние шеренги подпирают передние, человек в колонне духовно растворяется, теряет свою индивидуальность, легче поддается управлению, точнее исполняет команду и легче дисциплинируется [15, с. 30-31].
Еще одна новая форма боя - это стрелковая цепь, в которой можно предоставить стрелку самостоятельность, использовать его заинтересованность в успехе боя, делавшего его дерзким и находчивым. Лучшие стрелки могли избирательно уничтожать офицеров противника в линейном строю, а в это время за стрелковой цепью маневрировали, собирались и бросались в атаку колонны.
Колонна являлась отличным средством достижения численного перевеса в пункте удара в 2, 4 и 10 раз. С переходом к массовым армиям количественному перевесу придают исключительное значение. Поэтому военачальники в крупных сражениях стремятся обеспечить численный перевес (как Наполеон). Комбинация стрелковой цепи и колонн с обеспечением в решающий момент численного перевеса в пункте удара легла в основу общей тактики боя в сражении.
Русская армия не сразу перешла от линейной тактики к тактике колонн и рассыпного строя. Неэффективность линейной тактики показало Аустер-лицкое сражение, где медлительная и неповоротливая союзная армия была разбита одним ударом превосходящих французских войск, сосредоточенных против Праценских высот.
В кампании 1806-1807 гг. под Пултуском, Прейсиш-Эйлау и Фридляндом применялась переходная тактика. Пережитком оставалось то, что для ведения боя выбирались позиции ровные, неглубокие и тесные на всем протяжении. Военачальники стремились обозревать все поле боя и одновременно управлять всеми частями войск. Боевые порядки войск сочетали в себе как линии, так и колонны. Глубина боевого порядка обеспечивалась резервами армии и применением полевых фортификационных сооружений. Хотя русские войска не могли маневрировать, оборонительные бои велись упорно и всеми родами войск. Русские офицеры часто проявляли инициативу на незнакомой местности перед превосходящими силами противника. Для создания огневого вала артиллерия собиралась в отдельные группы, а также из нее создавались резервы. Конница использовалась не только для поддержки пехоты, но и для решения самостоятельных задач. Русский средний и высший командный состав проявил гибкость в решении поставленных задач при многократно превосходящих силах противника. Особенно отличились: Барклай-де-Толли, Багратион, Остерман-Толстой и Голицын.
В «финской» войне, в частности в сражениях при Куортане, Сальми и Оровайсе, высший командный состав русской армии проявил свое мастерство, разгромив шведские войска с помощью «иной» тактики. Бой велся так, что порядок войск разделялся и каждая группа действовала отдельно, выполняя общую задачу. Чаще всего одна группа войск наносила фронтальный удар по противнику, а вторая -обходным маневром наносила удар во фланг и тыл. Фронтальная группа выстраивалась в форме егерской цепи, а удар наносился в сомкнутых рядах, в колоннах. Главным родом войск на этом театре стала пехота, в частности егеря. Конница использовалась крайне редко и то при обходных маневрах. Особенно отличилась артиллерия, умелыми действиями она обеспечивала переход в наступление пехоты. В целом полностью произошел отказ от линейной тактики в пользу тактики колонн и рассыпного строя [16, с. 89].
Победа русского оружия под Рущуком и Слобод-зеей очередной раз показала эффективность новой тактики. В организации армии принята сложная отрядная система, так как в условиях сложности театра военных действий каждый отряд выполнял отдельные задачи. Для ведения боя обычно сосредотачивались крупные силы, которые снимались с других участков. Маневры осуществлялись в духе Суворова, в частности вернулись к «суворовскому» боевому порядку, когда сочетание батальонных каре с егерскими линиями использовалось для противостояния многочисленной вражеской коннице. В полевых сражениях артиллерия предназначалась для рассеивания боевых порядков. Также артиллерия прикрывала пехоту до расстояния ружейного выстрела, затем солдаты открывали ружейный огонь и переходили в штыковую атаку. Малочисленная русская конница применялась для преследования отступающего противника.
Окончательно новая тактика утвердилась среди русского генералитета в период Отечественной войны 1812 г. и заграничного похода русской армии 1813-1814 гг. Сражения при Бородине, Малоярославце и Вязьме убедительно доказали, что они овладели глубокой тактикой колонн. Используемая еще Суворовым тактика колонн и рассыпного строя была взята на вооружение Кутузовым и остальным генералитетом русской армии [16, с. 160].
Генерал от инфантерии А.Я. Рудзевич являлся ярким примером развития русского военного искусства. В период Отечественной войны 1812 г. он принял участие в сражениях при селениях Стахов и Брилле в составе войск адмирала Чичагова. В период с 17 ноября по 17 декабря Рудзевич совместно с другими русскими войсками преследовал отступающие французские части и за отличия в операции был пожалован орденом Св. Анны 1-й степени. В составе корпуса А. Ланжерона Рудзевич 17 декабря отправился в заграничный поход русской армии 1813-1814 гг., где проявил себя как способнейший полководец, применяющий вышеупомянутые новые формы стратегии и тактики против французов. Рудзевич участвовал в освобождении Герцогства Варшавского и территории Пруссии, в результате чего последняя стала союзником России. С 25 января по 16 марта 1813 г., находясь в корпусе А. Ланжерова, осаждал крепость Торн и, предотвратив вылазку баварцев из крепости, был награжден алмазными знаками ордена Св. Анны 1-й степени. Совершив подвиги в генеральном сражении под Бауценом, получил орден Св. равноапостольного князя Владимира 2-й степени большого креста. Во главе авангарда войск под командованием прусского фельдмаршала Блюхера участвовал в боевых операциях в Силезии. В сражениях близ городов Голдберг и Левенберг он взял в плен около 3500 французских солдат и офицеров (включая дивизионного генерала Пюто), захватил обоз маршала Макдональда. В Саксонии при селениях Гохкирхе-не, Рейнбахе и др. авангард Рудзевича остановил наступление численно превосходящей французской колонны, взяв в плен 7 офицеров и 360 солдат. За отличие в вышеупомянутых операциях он был произведен в генерал-лейтенанты, а от прусского короля награжден орденом Красного Орла 2-го класса. В «битве народов» под Лейпцигом 4 октября авангард генерала Рудзевича захватил 7 пушек, взял в плен 11 офицеров и 600 солдат, а 6 октября, собрав все свои силы «в кулак», выбил французов с позиций у деревни Мохао, перешел р. Парту и теснил противника до деревни Штейнфельд. 7 октября авангард Рудзевича преследовал отступающих французов, захватил обоз и взял в плен более 4000 человек. Вскоре Рудзевичу пожаловали орден Св. Александра Невского и шведский орден Меча 2-й степени. После Лейпцигского сражения авангард Рудзевича продвинулся к Рейну и блокировал крепость Майнц. Сдав осаду крепости принцу Кобургскому, 6 февраля присоединился к Силезской армии, в составе которой продолжал наступать на Париж. Генерал не раз оказывался в сложной ситуации и, благодаря тактике колонн и рассыпного строя, умело использовал свои небольшие силы против превосходящего по численности противника. Благодаря этому, 18 марта 8-й корпус под командованием Рудзевича (вместе с 10-м корпусом Капцевича) быстрым и решительным штурмом взял гору Монмартр - высочайшую точку Парижа. За взятие горы Монмартр Рудзевич награжден орденом Св. Георгия 2-го класса большого креста и прусским орденом Красного Орла 1-го класса. 1 мая 1814 г. генерал Рудзевич через всю Европу вернулся обратно в Россию [17, л. 4-5].
Кроме полководческого искусства, русский генералитет обладал дипломатическими навыками:
1. Вели переговоры о перемирии на определенный срок или сдаче крепости. Например, русский генерал Дибич (в период преследования войск маршала Макдональда в декабре 1812 г.) заключил перемирие с прусским генералом Йорком, который ранее входил в корпус Макдональда. Согласно конвенции «прусский корпус остается нейтральным до получения приказаний Его Величества Прусского Короля... и не служить против Императорско-
Российской армии» [18, с. 425]. Тем самым Дибич смог без кровопролития вывести из боя вражеское соединение, которое впоследствии станет союзным. Фридрих Вильгельм III видел в этой конвенции начало военного союза против Наполеона: «Король (Фридрих Вильгельм III) совсем решился быть с нами против французов... а генерал Йорк в короткое время берется поставить еще Прусских войск до двадцати тысяч» [19, с. 428]. В 1809 г. с рущук-ским пашой и в 1811 г. - с видинским пашой русское командование вело переговоры о постепенной сдаче данных крепостей и довольно успешно [20, с. 322].
2. Получая полномочия от императора, генералы могли заключать мирный договор от лица своей страны. Яркий тому пример - М.И. Кутузов, получивший полномочия от Александра I заключить мир с Турцией (на тех же условиях, что и генерал Н.М. Каменский) [21, с. 343].
3. Возглавляли посольства для урегулирования взаимоотношений с другими странами. Например, в 1816 г. генерал А.П. Ермолов в качестве «чрезвы-чайнаго посла» возглавил посольство в «Персию» с целью «приведения к окончанию возникших с персидским правительством недоразумений и споров о границах, вследствие сделанных нами приобретений по Гюлистанскому трактату 1813 г.» [22, с. 69]. Свою миссию посольство успешно выполнило.
Военная дипломатия в свою очередь является составляющей политики войны [6, с. 32], которая также входит в военное искусство. В тесном взаимодействии дипломатия и стратегия определяют международную ситуацию. Перемирие обычно использовалось Ираном, Турцией, Францией, Швецией с целью затягивания войны. Иран и Турция, если добивались с русской стороной перемирия, то использовали его для формирования новой армии, получения поддержки Франции или Англии и срыва подписания мира на невыгодных для себя условиях. Шведы использовали перемирие для срыва стремительного наступления русской армии (в случае генералов Беннигсена и Кнорринга) и по этой причине войска генерала Багратиона не заняли Стокгольм. Франция в лице Наполеона использовала перемирие лишь для пополнения армии и продолжения войны, но не считала промежуточной стадией перед подписанием мирного договора. Русские генералы шли обычно на переговоры в расчете заключения мира, после достижения договоренностей в его условиях. Но как только становилось понятно, что противоположная сторона использует время переговоров не с целью заключения мира (а для затягивания войны), то сразу же с русской стороны возобновлялись военные действия. Если этого не происходило, то тогда вмешивался сам император Александр I и требовал продолжать наступление, отправляя к тому или иному главнокомандующему своего представителя (Аракчеева, например). Генерал Цицианов поплатился жизнью во время переговоров о сдаче г. Баку в период русскоиранской войны (был застрелен и обезглавлен во время передачи ключей от города). В целом русский генералитет проявил неплохие дипломатические способности.
Таким образом, в условиях постоянных войн военное искусство русского генералитета совершенствовалось. Среди новых форм военного искусства следует выделить:
1) широкий маневр имеющимися войсками во фланг и тыл;
2) концентрическое наступление на противника с целью его последующего окружения на тактическом уровне и уничтожения;
3) стратегическое преследование противника;
4) военные действия на огромных территориях силами небольших войсковых групп, где каждый генерал брал на себя определенную ответственность (а не как ранее в основном отвечал за неудачи главнокомандующий русскими войсками) и посредством выполнения отдельных задач достигался общий успех для русской армии. Причем эти группы войск действовали отдельно друг от друга;
5) при оборонительных операциях, в случае численного превосходства противника, русское командование осуществляло стратегическое отступление и избегало генеральных сражений для спасения самой армии [18, с. 160];
6) на тактическом уровне полностью произошел переход от линейной тактики к тактике колонн и рассыпного строя;
7) совершенствовались приемы военной дипломатии, генералы могли получать полномочия для заключения мирного договора.
В целом русский генералитет как высший привилегированный слой армии, на который опирался Александр I в войнах начала XIX в., сыграл огромную роль в выполнении внешнеполитических задач Российской империи, применяя новые формы военного искусства.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 70
10. Бутурлин, Д.П. Картина войн России с Турциею в царствования императрицы Екатерины II и императора Александра I : пер. с фр. [Текст] / Д.П. Бутурлин - Спб. : Типография императорского воспитательного дома, 1829. - Ч. 1.
11. Разделение управления войсками между двумя командующими [Текст] / сост. А.Л. Гизетти // Хроника Кавказских войск. - Тифлис, 1896.
12. Государственный архив Воронежской области (далее - ГАВО). Ф. И-83. Оп. 1. Д. 10.
13. Предписание Белорусского Военнаго Губернатора, герцога Александра Вюртенбергскаго, Могилевскому гражданскому губернатору от 3 июля 1812 г. о мерах на случай неприятельского нашествия [Текст] // Акты, документы и материалы для политической и бытовой истории 1812 года. Белоруссия в 1812 году. -СПб., 1911. - Т. 3.
14. Сальников, А.В. Складывание основ линейной тактики боя в европейских армиях нового времени [Текст] / А.В. Сальников // Science Time. - 2014. - № 4. - С. 203-214.
15. Боголюбов, А.Н. Полководческое искусство Суворова [Текст] / А.Н. Боголюбов. - М. : Воениздат, 1939.
16. Бескровный, Л.Г. Русское военное искусство в XIX веке [Текст] / Л.Г. Бескровный. - М. : Наука, 1974.
17. ГАВО. Ф. И-83. Оп. 1. Д. 31.
18. Конвенция, заключенная 18 (30) декабря 1812 года между генерал-майором Дибичем и прусским генералом Йорком [Текст] // Акты, документы и материалы для политической и бытовой истории 1812 года. Балтийская окраина в 1812 году. - СПб., 1911. - Т. 2.
19. Рапорт генерал от кавалерии графа Витгенштейна князю Кутузову-Смоленскому, от 26 декабря 1812 г. № 207 [Текст] // Акты, документы и материалы для политической и бытовой истории 1812 года. Балтийская окраина в 1812 году. - СПб., 1911. - Т. 2.
20. 1811 г. апреля 13. - Отношение М.И. Кутузова М.Б. Барклаю-де-Толли о взаимоотношениях с Мулла-пашой [Текст] // М.И. Кутузов. Сборник документов. 1808-1812. - М. : Воениздат, 1952. - Т. 3.
21. 1811 г. апреля 26. - Письмо М.И. Кутузова Н.П. Румянцеву с подтверждением получения полномочий на заключение мира с Турцией [Текст] // М.И. Кутузов. Сборник документов. 1808-1812. - М. : Воениздат, 1952. - Т. 3.
22. Воронежское дворянство в Отечественную войну [Текст]. - Воронеж : Воронежская областная типография. 2012.
ВОСТОЧНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЯХ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО_
кандидат исторических наук, доцент кафедры философии, социологии и истории,
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет;
доктор исторических наук, профессор кафедры истории России,
Воронежский государственный педагогический университет
АННОТАЦИЯ. Анализируется оценка восточной политики России в художественных и публицистических произведениях Ф.М. Достоевского. Писатель исходил из того, что восточный вопрос для России уходил своими корнями в далёкое историческое прошлое — ко времени Московского царства и Ивана Грозного. При Петре Великом восточный вопрос приобрел для России самостоятельное значение. Во второй половине XIX в. Россия достигла достаточного военно-политического влияния для непосредственного участия в разрешении восточного вопроса, приступила к осуществлению стратегического курса на Балканах, вступив в 1877 г. в войну с Турцией за освобождение славянских народов Балканского полуострова. Автор приходит к выводу, что многое из достигнутого русской дипломатией в те годы в реализации восточной политики не удалось сохранить и приумножить. Не сбылись мечты Ф.М. Достоевского о формировании Всеславянского союза, о присоединении к России Константинополя и т.д. Однако размышления
Ф.М. Достоевского о роли России в решении восточного вопроса остаются актуальными до сегодняшнего дня. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ф.М. Достоевский, исторические взгляды, восточный вопрос, история России, внешняя политика России.
Cand. Hist. Sci., Docent of the Department of Philosophy, Sociology and History,
Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering;
Dr. Hist. Sci., Professor of the Department of Russian History,
Voronezh State Pedagogical University
ABSTRACT. The article analyzes the evaluation of Russia’s eastern policy in fiction and nonfiction works of F.M. Dostoyevsky. The writer proceeded from the fact that the Eastern question for Russia was deeply rooted in the distant historical past - the time of Moscow Kingdom and Ivan the Terrible. Under Peter the Great the Eastern question acquired an independent significance for Russia. In the second half of the XIX century, Russia gained sufficient military and political influence to directly participate in the settlement of the Eastern Question, launched a strategic course in the Balkans, joining in 1877 the war against Turkey for liberation of Slavic peoples of the Balkan Peninsula. The author concludes that much of what had been achieved by Russian diplomacy in realization of Eastern policy in those years failed to be maintained and multiplied. Dostoevsky’s cherished aspiration for founding Slavic Union, annexation of Constantinople to Russia and etc. didn’t pan out. Nonetheless, Dostoevsky s assumptions about the role of Russia in solving the Eastern question do not lose their topicality to this day.
KEY WORDS: Dostoevsky, historical views, Eastern question, history of Russia, Russian foreign policy.
В творчестве Ф.М. Достоевского большое внимание уделялось восточной политике Российского государства, ставшей важнейшим направлением его внешнеполитического курса. В разные периоды содержание так называемого восточного вопроса претерпевало изменения. В допетровской России он являлся фактором освоения новых территорий и расширения восточных границ Московского царства. Именно с Ивана IV началось присоединение к России земель Поволжья и Урала,
на что указывал Ф.М. Достоевский: «Молодой царь Иван Васильевич, тогда еще не Грозный, решил кончить с этим тогдашним Восточным вопросом и взять Казань» [1, т. 23, с. 120]. При этом писатель отмечал гуманное отношение российской власти к коренному населению Казанского ханства. Русский царь никого не выселил из Казани, население сохранило право заниматься торговлей и традиционными хозяйственными делами, единственное, что
Информация для связи с автором: volkne@bk.ru
«отобрали тщательно оружие у жителей, поставили русское правительство» [1, т. 23, с. 120].
В дальнейшем восточный вопрос становится постоянной проблемой российской политики. Достаточно назвать Прутский поход и персидские походы Петра I. В связи с этим Ф.М. Достоевский отмечал, что «Восточный вопрос - есть исконная идея Московского царства, которую Петр Великий признал в высшей степени» [1, т. 26, с. 30]. В XVIII - первой половине XIX вв. Россия вела длительные войны с Персией и Турцией за усиление своего влияния на южных рубежах. Особое значение и многоаспект-ность восточный вопрос приобрел с середины XIX в. [2, с. 3].
В это время восточный вопрос в международной политике представлял собой сложнейший комплекс взаимоотношений и глубинных противоречий между великими державами и азиатскими, африканскими и европейскими территориями, а также проливами, находившимися под контролем Османской империи. Содержание восточной политики Европы составляло установление колониального господства европейских государств над народами Азии и Африки. Как уже отмечалось, восточный вопрос вызревал в течение нескольких столетий из объективных условий эволюции Запада и Востока, России и Востока. В своих публицистических произведениях Ф.М. Достоевский называл восточный вопрос «бесконечным Восточным вопросом» [1, т. 23, с. 38]; «вечно неразрешимым Восточным вопросом» [1, т. 23, с. 43], «страшным Восточным вопросом» [1, т. 25, с. 74].
Ф.М. Достоевский стремился более точно определить, исходя из коренных интересов России, содержание и пространственно-временные границы восточного вопроса. «Взгляд на Восточный вопрос должен принять несравненно более определенный вид и для всех нас. Россия сильна народом своим и духом его, а не только лишь образованием, например, своим богатством, просвещением и проч., как в некоторых государствах Европы, ставших за дряхлостью и потерею живой национальной идеи совсем искусственными и как бы даже ненатуральными» [1, т. 24, с. 62], - писал он. При этом восточный вопрос, по мнению автора, был критерием российской духовности и нравственности, тесно связывался с «историей нашего самознания» [1, т. 21, с. 9], к тому же у России «нравственные интересы в Восточном вопросе пересилили материальные» [1, т. 24, с. 295].
Писатель обращал внимание на геополитическое положение России как страны, расположившейся на территории Европы и Азии. «Россия не в одной только Европе, но и в Азии; потому что русский не только европеец, но и азиат. Мало того: в Азии, может быть, еще больше наших надежд, чем в Европе. Мало того: в грядущих судьбах наших, может быть, Азия-то и есть наш главный исход!» [1, т. 27, с. 33], - отмечал он в очерке «Геок-Тепе. Что такое для нас Азия?». В этом отношении писатель может рассматриваться в качестве предшественника российского евразийства [3].
Ф.М. Достоевский четко показывал отличие западного (европейского) вектора политического курса Российского государства от азиатского направления внешней политики. Будущее России, считал он, - в Азии: «Европа нас готова хвалить, по головке гладить, но своими нас не признает, презирает нас втайне и явно, считает низшими себя как людей, как породу, а иногда так мерзим мы им, мерзим вовсе, особенно когда им на шею бросаемся с братскими поцелуями. Но от окна в Европу отвернуться трудно, тут фатум. А между тем Азия -да ведь это и впрямь может быть наш исход в нашем будущем... Азия, азиатская наша Россия, -ведь это тоже наш больной корень, который не то что освежить, а совсем воскресить и пересоздать надо. Принцип, новый принцип, новый взгляд на дело - вот что необходимо!» [1, т. 27, с. 35]. Он акцентировал внимание на огромных богатствах, находящихся в Азии, значении выхода к Тихому океану.
Ф.М. Достоевский поддерживал усилия России по освоению Сибири и Дальнего Востока, продвижению в Среднюю Азию, показывал, что это открывало для страны новые геополитические возможности. Кроме того, писатель считал, что богатые природные ресурсы Сибири и Дальневосточного региона могут принести большую пользу стране [1, т. 27, с. 79]. Он приветствовал успехи российской дипломатии и армии в присоединении Средней Азии к России. «Русская среднеазиатская политика твердо может теперь надеяться достигнуть вполне своих целей» [1, т. 21, с. 141], - отмечал он. В очерке «Иностранные события» он подчеркивал международное значение этих событий: «У нас и в Европе. даже и Англия стала, наконец, смотреть на успехи наши в Азии с несколько большею к нам доверчивостью» [1, т. 21, с. 141]. Особенно высоко писатель оценивал успехи Российской армии. «Покорение хивинского хана еще раз заставило русских гордиться своею армией, а в Европе, где на этот раз сумели оценить важность события, подвиг русских войск возбудил даже удивление. Факт, что Европа удивляется наконец русскому воину» [1, т. 21, с. 242].
Присоединение Средней Азии к России имело положительные последствия. В регионе прекратились кровопролитные междоусобные, родоплеменные и феодальные войны, были уничтожены работорговля и рабство, началось строительство железных дорог, новых городов, более открытым и веротерпимым стало местное общество. «Миссия, миссия наша цивилизаторская в Азии подкупит наш дух и увлечет нас туда, только бы началось движение. Постройте только две железные дороги, начните с того, - одну в Сибирь, а другую в Среднюю Азию, и увидите тотчас последствия» [1, т. 27, с. 37], - отмечал Ф.М. Достоевский.
Во второй половине XIX в. содержание восточного вопроса было связано с решением ряда других острых международных проблем. Стояла задача освобождения родственных христианских (большей частью православных) славянских народов Балканского полуострова от османского ига. Русский народ понимал данный аспект восточного вопроса с позиции освобождения всего православного христианства и создания единой церкви [1, т. 25, с. 73]. Сам писатель также связывал восточный вопрос с судьбами православия, с судьбами живших на Востоке православных христиан. Россия «будет стоять на страже всего Востока и грядущего порядка его. . Ибо что такое Восточный вопрос? Восточный вопрос есть в сущности своей разрешение судеб православия. Судьбы православия слиты с назначением России» [1, т. 26, с. 85].
Федор Михайлович хорошо понимал остроту восточного вопроса, его влияние на ход европейских и российских событий: «Загорелся Восточный вопрос, загорелся он и во всей Европе тотчас же, как и у нас, даже раньше» [1, т. 25, с. 144]. С восточным вопросом писатель связывал судьбу России в будущем: «Этот страшный Восточный вопрос -это чуть не вся судьба наша в будущем» [1, т. 21, с. 9]. Западные державы нацелились на раздел наследия Османской империи, которая к этому времени представляла собой «больного человека». В свою очередь Россия стремилась усилить свое влияние на Ближнем Востоке и установить контроль над проливами Босфор и Дарданеллы. Западная Европа с тревогой следила за проведением Российской империей восточной политики, делая ставку на поддержку Турции в борьбе против России. «Парижским трактатом 1856 года, - писал в своих мемуарах российский генерал, участник русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Эдуард Васильевич Экк, - Турецкая империя была включена в сонм великих держав. Но это включение счастья ей не принесло. ... Турция оказалась банкротом» [4, с. 61]. Используя противоречия среди европейских государств, Россия достаточно быстро преодолела негативные последствия Парижского мирного договора и приступила к осуществлению задуманных планов. «Россия уже не может отказаться от движения своего на Восток» [1, т. 24, с. 62], - сделал вывод Ф.М. Достоевский.
Восточная тематика получила широкое освещение в публицистических произведениях Ф.М. Достоевского в связи с русско-турецкой войной 18771878 гг. Восточный кризис 1875-1878 гг. был связан в первую очередь с подъемом национальноосвободительного движения славянских народов против Османской империи. Размышляя о причинах резкого обострения ситуации на Балканах, в очерке «Восточный вопрос» Ф.М. Достоевский говорил о росте насилия, о том, что там произошла «вспышка мусульманского фанатизма, ужасное избиение башибузуками и черкесами шестидесяти тысяч мирных болгар, стриков, женщин и детей -всё это разом зажгло и двинуло войну» [1, т. 23, с. 44].
Тема насилия над славянскими народами со стороны турок неоднократно поднималась Достоевским в «Дневнике писателя». В очерке «Самое последнее слово цивилизации» он отмечал: «В глазах умирающих братьев бесчестятся их сестры, в глазах матерей бросают вверх их детей-младенцев и подхватывают на ружейный штык; селения истребляются, церкви разбиваются в щепы, все сводится поголовно - и это дикой, гнусной мусульманской ордой, заклятой противницей цивилизации. Это уничтожение систематическое; это не шайка разбойников, выпрыгнувших случайно во время смуты и беспорядка войны. Нет, тут система, это метод войны огромной империи. Разбойники действуют по указу, по распоряжению министров и правителей государства, самого султана. А Европа, христианская Европа, великая цивилизация смотрит с нетерпением. «когда же это передавят этих клопов» [1, т. 23, с. 61]. Как видим, эти слова писателя очень подходят к характеристике современной ситуации, когда Запад попустительствует всевозможным радикальным исламистским террористическим организациям.
Российское правительство оказывало действенную помощь славянским народам Балкан в освобождении от турецкого ига. Русское общество сплотилось вокруг славянского вопроса. Кроме правительства, в этом благородном деле участвовала Русская православная церковь. Покровская община сестер милосердия приняла сербских и болгарских детей, о чем Ф.М. Достоевский писал в очерке «Самозваные пророки и хромые бочары» [1, т. 25, с. 38]. Писатель с грустью констатировал, что сербские и болгарские дети в этой общине отказывались играть друг с другом - сербы обвиняли болгар в том, что они плохо сражались с турками.
Решение восточного вопроса для России Ф.М. Достоевский тесно связывал с идеей объединения славянства. «А между тем на Востоке действительно загорелась и засияла небывалым и неслыханным еще светом третья мировая идея - идея славянская, идея нарождающаяся» [1, т. 25, с. 9], -писал он в очерке «Три идеи». Славянский вопрос писатель считал лишь одним из этапов на пути полного решения всего Восточного вопроса. «После разрешения Славянского вопроса, - писал он в очерке "Одно совсем особое словцо о славянах", -России, очевидно, предстоит окончательное разрешение Восточного вопроса» [1, т. 26, с. 81]. Вместе с тем писатель полагал, что, будучи инициатором и лидером объединения славянских народов, Россия не будет навязывать им собственные идеи и пути эволюции.
Ф.М. Достоевский обращал внимание на стремление правящих кругов ведущих государств Западной Европы не допустить усиления позиций России на Балканах. «Европа придумала мечту, - писал он. - Турция. Главное, ей надо было унизить Россию» [1, т. 21, с. 9]. Запад всячески препятствовал тому, чтобы Россия в полной мере воспользовалась результатами собственной победы в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. Свидетельством такого положения стали итоги Берлинского конгресса 1878 г., существенно снизившие положительные последствия военной победы над Турцией для России и славянских народов. «Огромный английский флот стоит у Константинополя . из политических соображений, а вернее - на всякий случай. У Австрии уже готова огромная армия - тоже на всякий случай. Австрийская пресса раздражительно относится к восставшим сербам и - к России» [1, т. 23, с. 51],
- рассуждал писатель о внешнеполитических проблемах в очерке «Опять о женщинах».
К концу 1877 г. Ф.М. Достоевский, предвидя скорую победу России в войне с Турцией, анализировал варианты будущего политического устройства Европы. При этом он постоянно примерял судьбу России к будущему мироустройству. Необходимо «такому огромному великану, как Россия, выйти, наконец, из запертой своей комнаты, в которой он уже дорос до потолка, на простор, дохнуть вольным воздухом морей и океанов. . Константинополь не может миновать России», - писал он в очерке с характерным названием «Еще раз о том, что Константинополь, рано ли, поздно ли, а должен быть наш» [1, т. 25, с. 67].
Федор Михайлович полагал не только возможным, но и необходимым переход Константинополя под контроль России. В этом стремлении писатель шел даже дальше российской дипломатии. «Константинополь, - писал он в очерке "Толки о мире",
- должен быть наш, завоеван нами, русскими, у турок и остаться нашим навеки. Одним нам он должен принадлежать, а мы, конечно, владея им, можем допустить в него и всех славян, и кого захотим, еще сверх того, на самых широких основаниях» [1, т. 26, с. 83]. Основываясь на результатах русско-турецкой войны, Ф.М. Достоевский отстаивал стратегическую для внешней политики России задачу овладения Константинополем: «Константинополь - рано ли, поздно ли, должен быть наш» [1, т. 23, с. 48]. Он оставался приверженцем этой идеи до последних лет своей жизни [5]. Константинополь рассматривался Ф.М. Достоевским как форпост славянства на востоке: «Россия, владея Константинополем, будет стоять именно как бы на страже свободы всех славян и всех восточных народностей, не различая их с славянами» [1, т. 25, с. 85].
Восточный вопрос был настолько сложным, что вносил разногласия и раскол в политику европейских держав. Англия, Германия, Австрия, Россия имели собственные геополитические интересы на Востоке. «Каждый раз, именно с Восточного вопроса вся Европа из видимого целого, тотчас же и слишком уж явно, начинает распадаться на свои личные, отдельно-национальные эгоизмы» [1, т. 23,
с. 108], - писал Ф.М. Достоевский в очерке «Piccola bestia». Он призывал учитывать резко возросшее значение в международных делах объединенной Германии, которой отводил главную роль в решении восточного вопроса: «Восточный вопрос теперь в Берлине, да и всё теперь таится и гнездится в Берлине» [1, т. 24, с. 143]. Фёдор Михайлович хорошо понимал агрессивный характер европейских держав. «Вся суть Восточного вопроса в эту минуту заключается в союзе Германии с Австрией, да еще в австрийских захватах Турции, поощряемых князем Бисмарком» [1, т. 27, с. 39].
Ф.М. Достоевский неоднократно подчеркивал всемирно-историческое значение восточного вопроса. «Восточный вопрос есть... один из мировых вопросов, один из главных отделов мирового и ближайшего разрешения судеб человеческих, новый грядущий фазис этих судеб» [1, т. 25, с. 144], -писал он в очерке «Дипломатия перед мировыми вопросами». «С разрешением Восточного вопроса выдвинется в человечество новый элемент, новая стихия, которая лежала до сих пор пассивно и косно и которая . не может не повлиять на мировые судьбы чрезвычайно сильно и решительно» [1,
т. 25, с. 9].
На основе изучения обстановки на Балканах Ф.М. Достоевский предчувствовал возможное перерастание войны России против Турции в войну против Европы. «Россия обнажает меч против турок, но, кто знает, может быть, столкнется и с Европой» [1, т. 25, с. 127], - писал он в очерке «Признания славянофила». «Восточная война, - провидчески отмечал писатель в очерке "То да не то", - может в самом скором времени обратиться во всеевропейскую» [1, т. 26, с. 16]. При этом Ф.М. Достоевский обосновывал идею особой освободительной и созидательной миссии России на Востоке. В очерке «Русский народ слишком дорос до здравого понятия о восточном вопросе с своей точки зрения» (мартовский выпуск «Дневника писателя» за 1877 г.) он рассуждал об усилении роли России в исторических судьбах Востока: «Весь русский народ совершенно подтвердил новое назначение России и царя своего в грядущих судьбах всего Восточного мира» [1, т. 24, с. 68].
В силу своих монархических взглядов Ф.М. Достоевский полагал, что русский император мог бы стать правителем Востока, не расшифровывая, однако, это понятие. «Меч России уже несколько раз сиял на Востоке в защиту его. Само собою, что и народы Востока не могли не видеть в царе России не только освободителя, но и будущего царя своего» [1, т. 25, с. 67]. Более того, Достоевский стремился распространить власть российского императора не только на славянский, но и на весь мусульманский мир: «Русский царь есть царь и повелитель всего мусульманского Востока. Пусть приучаются к этой мысли в Константинополе» [1, т. 27, с. 86].
Размышляя о роли восточного вопроса в судьбах цивилизации, Ф.М Достоевский в очерке «Кто стучится в дверь?» отмечал: «Восточный вопрос и восточный бой силою судеб сольется тоже с всеевропейским боем. ... Я уверен, что бой окончится в пользу Востока, в пользу Восточного союза, что России бояться нечего, если Восточная война сольется с всеевропейской» [1, т. 26, с. 22]. Писатель неоднократно повторял, что «бой окончится в пользу Востока и России» [1, т. 26, с. 181]. В этом проявлялись идеализированные оценки Федором Михайловичем российской политики на Балканах исключительно как борьбы за освобождение славянских народов, за торжество христианства: «Русский народ. весь как один человек хочет, чтоб великая цель войны за христианство была достигнута» [1, т. 26, с. 44]. Писатель резко выступал против искажения роли России в проведении восточной политики. Он давал отповедь различного рода измышлениям западных политиков и журналистов по этому поводу. Так, в очерке «О воинственности немцев» писатель решительно протестовал против клеветнических выпадов германской прессы о том, что «русские хотят захватить Восток и славян» [1, т. 23, с. 61].
Итак, в художественных и особенно публицистических произведениях Ф.М. Достоевского уделялось большое внимание различным аспектам восточной политики Российского государства, участию России в решении восточного вопроса. Писатель исходил из того, что восточный вопрос для России имел глубокие исторические корни. События, современником которых являлся писатель, убеждали его, что Россия приобрела достаточное военнополитическое влияние для благоприятного разрешения восточного вопроса и на этой основе стратегического выхода в лидеры мирового исторического процесса.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 71
доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России,
Воронежский государственный университет
АННОТАЦИЯ. Анализируется социально-экономическое положение деревни Воронежской губернии в последние годы существования Российской империи. Дается оценка результатов новой аграрной политики, основанной на приватизации крестьянской земли. Раскрыто влияние аграрного перенаселения на состояние крестьянской экономики и на социальные отношения в деревне.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: крестьянство, Воронежская губерния, начало ХХ века, новая аграрная политика, результаты.
Dr. Hist. Sci., Professor of the Department of Russian History,
Voronezh State University
ABSTRACT. The article analyzes socio- economic situation of the village in Voronezh province during the last decades of the history of the Russian Empire. The results of a new agrarian policy, based on privatization of the peasant land allotments, are represented. The influence of agrarian overpopulation on the peasant economy and on social relations in the village is revealed.
KEY WORDS: peasantry, Voronezh province, early 20th century, new agrarian policy, results.
Цели и социальная направленность столыпинского аграрного курса долго были и до сих пор остаются предметом острых политических и историографических дискуссий. Историки-марксисты, как известно, стремились выяснить классовый характер аграрных преобразований царского правительства и неизменно указывали на консервативную и даже реакционную сторону политики П.А. Столыпина в деревне. Премьера-реформатора упрекали главным образом в том, что он стремился сохранить помещичью земельную собственность и подвести под самодержавие новую опору в виде укрепившегося кулачества [1, с. 5963]. В зарубежной и отечественной литературе новейшего времени, напротив, упор делается на определение социально-экономической и политической целесообразности столыпинских преобразований. Исследователи стали акцентировать внимание на том, что реформы эти были призваны положить начало гражданственности и эффективного хозяйствования в среде российского крестьянства [2, с. 1015]. В трудах историков и выступлениях публицистов получили широкое распространение оптимистические оценки аграрного курса, направленного на приватизацию крестьянской надельной земли. Впрочем, в научной литературе сохраняются и гораздо более осторожные выводы о возможностях новой аграрной политики. Следует выделить, в частности, основательный труд английской исследовательницы Дж. Пэллот. Автор оценила столыпинские начинания как очередную административную утопию, едва ли способную обеспечить скорый прогресс русского сельского хозяйства [3, с. 187].
Между тем у данной проблематики есть еще один важный и при этом вполне самостоятельный аспект. Речь идет о выяснении сугубо экономической результативности политики, основанной на постепенном сокращении общинного надельного землевладения. Как повлиял переход части крестьянства к индивидуальному хозяйствованию и приватизации земельных угодий на развитие культуры и на состояние аграрного сектора экономики? Японский историк Кимитака Мацузато справедливо подчеркнул, что без анализа этой стороны реформ нельзя всерьез воспринимать категорические суждения о крахе или, напротив, о полном успехе правительственных начинаний того времени [4, с. 196]. Соглашаясь с японским исследователем, отметим, что такой анализ может быть успешен лишь при условии учета особенностей российских регионов. Материалы, раскрывающие ход преобразований в Воронежской губернии, дают неплохие возможности для объективного анализа развернувшейся перестройки русской деревенской жизни.
Прежде всего, местные источники свидетельствуют о безусловной и неотложной необходимости в реформах. Спустя четыре десятилетия после отмены крепостного права социально-экономическое положение воронежского крестьянства отличалось крайней противоречивостью. С одной стороны, земледелие и животноводство в губернии вступили в полосу острого и затяжного кризиса, о хроническом характере которого свидетельствовало широкое рас-
Информация для связи с автором: m-karpach@mail.ru
пространение в публицистике того времени термина «оскудение». Под этим звучным словом понималось депрессивное состояние экономики как помещичьих, так и крестьянских хозяйств. Крестьянство губернии периодически голодало, а воронежское дворянство в пореформенные годы неуклонно теряло свою земельную собственность. Выйти из такого печального положения без глубоких структурных преобразований и без чрезвычайных усилий всего общества было невозможно.
Причин у аграрного кризиса (или у «оскудения») было много. Прежде всего, уже в первые десятилетия после крестьянского освобождения стало ясно, что возможности для продолжения экстенсивного сельского хозяйства в губернии исчерпаны. Всю вторую половину XIX в. и первые полтора десятилетия ХХ в. в черноземных губерниях наблюдался исключительно быстрый рост численности сельского населения, между тем свободного резерва еще не возделанных земельных площадей к тому времени не осталось. Если в 1862 г. в Воронежского губернии проживало около 1,8 млн чел., то в 1897 г. - уже около 2,5 млн, в 1905 - около 3,2 млн, а в 1914 г. - примерно 3,7 млн. Произошло значительное сокращение среднего для всех категорий крестьян душевого земельного надела примерно с 4,8 дес. в 1861 г. до 2,6 дес. в 1905 г. В среде самого крестьянства, а также в кругах оппозиционной интеллигенции все более настойчивый характер стали приобретать разговоры о крестьянском малоземелье как главной причине материальных затруднений народа. Многим демократически настроенным интеллигентам казалось, что у этой проблемы было самое простое решение: надо было увеличить размеры крестьянского землепользования. Делать это следовало, конечно, путем принудительного перераспределения земельной собственности на путях классовой борьбы против частных владельцев, прежде всего дворян.
Однако вдумчивые наблюдатели уже в те годы хорошо понимали, что такое «простое» решение не может дать положительного результата. Корень проблемы многим знатокам аграрной проблематики виделся не в малоземелье (с просторами Воронежской губернии, в частности, это понятие сочеталось плохо), а в росте избыточного сельского населения, в так называемом аграрном перенаселении региона. Доля сельского населения в губернии, несмотря на рост городов, и в начале ХХ в. доходила до 95%, между тем практически вся земля уже давно вошла в сельскохозяйственный оборот. По подсчетам некоторых специалистов, для обработки угодий в черноземных губерниях вполне могло хватить 35% наличных рабочих сил, следовательно, 65% трудоспособных крестьян в деревне могли считаться относительно «лишними» [5, с. 115]. Такие расчеты нуждаются в уточнении, но факт оставался фактом: относительная перенаселенность воронежской деревни возрастала с каждым годом.
Известный земский статистик Ф.А. Щербина, внимательно наблюдавший за жизнью воронежской деревни конца XIX в., отметил абсолютную неизбежность коренных перемен. «Когда же количество жителей, - писал он, - настолько увеличится, что земледельческих продуктов окажется мало для него и под руками не бывает свободных земель, тогда для населения предстоит обыкновенно троякий исход - или усилить производительность той же площади земли, т.е. повести более интенсивное хозяйство, или выселить приросший избыток жителей на сторону, или же изыскать, наконец, иные, помимо земледелия, материальные источники» [6, с. 244].
Второй и третий способы использовать было и проще, и привычней, первый, напротив, был наиболее труден, а для воронежского крестьянства попросту недоступен. Переходу к интенсивному хозяйствованию мешало слишком многое: и низкий культурный уровень деревни, и традиции уравнительного землепользования, и отсутствие устойчивого спроса на крестьянскую продукцию. На протяжении веков община существовала для обеспечения материальных условий собственного крестьянского существования и плохо вписывалась в условия рыночного обмена. Не внушали больших надежд и выселения. Прираставший избыток жителей начал понемногу уходить из губернии уже в первые пореформенные десятилетия. Однако масштабы выхода до начала ХХ в. оставались относительно невысокими и заметного влияния на сокращение аграрного перенаселения не оказывали [7, с. 9-10].
Более существенное значение имел поиск неземледельческих источников материального существования. Рост промышленности, развитие новых путей сообщения и городской жизни открывали неизвестные прежде перспективы. Все более значительная часть крестьянства перестала воспринимать обезземеливание как полную жизненную трагедию, находились иные, нередко гораздо более прибыльные, чем обработка земли, занятия. По сведениям переписи 1897 г., в Воронежской губернии было зафиксировано около 50 разных видов домашних кустарных промыслов, в которых было занято около 40 тыс. работников с годовым заработком в 3 млн руб. [8, с. 238]. Например, тысячи крестьян, в том числе безземельных, с успехом занимались сапожным промыслом в слободе Бутурлиновке. Уже через 20 лет после отмены крепостного права объемы производства сапог достигали здесь внушительной цифры в 1 млн пар ежегодно. Средняя цена за пару сапог составляла тогда 3-3,5 руб. Семья, в которой шил сапоги 1 мастер с помощником, зарабатывала в год около 250 руб. [9, с. 75]. Это был вполне приличный доход, если иметь в виду, что сумма годовых денежных повинностей (государственных, земских и мирских) средней крестьянской семьи составляла около 30 руб., а, скажем, пуд говядины на городском рынке стоил около 3 руб., пуд ржи - около 80 коп. Примерно такие же заработки могли иметь и плотничьи артели, в состав которых входили сотни крестьян Нижнедевицкого уезда. «Зарабатываемые деньги, - отмечал современник, -идут на уплату податей, на наем земли под посев и на домашние нужды; а часть денег (от 1/6 до 1/3 получаемого заработка) пропивается» [10, с. 100]. Конечно, такие семьи продолжали заниматься и земледелием, но удельный вес привычного крестьянского труда у них заметно снижался.
Под прессом земельной тесноты десятки тысяч воронежских крестьян начали систематически прибегать к отхожим промыслам. На заработки отправлялись целыми артелями, преимущественно в многоземельные казачьи станицы Дона, Кубани и Ставрополья. В хорошие годы сезонные заработки там заметно превосходили денежные доходы среднего крестьянина, остававшегося трудиться на своем наделе в родной губернии.
Новые виды заработков самым серьезным образом отражались на быте и на социальной психологии воронежской деревни. Быстро расширялись контакты крестьянства с окружавшим миром, а дополнительные ресурсы давали возможность хотя бы частично удовлетворять новые потребности. Наблюдатели отмечали, что в селах с большой долей отходников в лучшую сторону менялся облик зданий, шире распространялась грамотность, выше становились материальные запросы крестьянства. По данным Б.Н. Миронова, обострявшееся малоземелье не помешало русскому крестьянству в конце XIX в. существенно увеличить потребление продуктов питания, особенно ржи и картофеля (в 1913 г. на 37% больше, чем в 1890 г.) [11. с. 466-467]. Словом, значительная часть обезземеленных крестьян губернии находила новые источники пополнения жизненных средств. Но при этом социальная мобильность резко возрастала, что быстро расшатывало все привычные устои крестьянского общества. Крестьянство становилось гораздо более требовательным, а его недовольство начинало проявляться с большой силой. «Теперь, иронизируют крестьяне, в светлой хате сын хватит по уху отца, а прежде этого не бывало», - подмечал тот же Ф.А. Щербина [6, с. 414-415].
Словом, борьба крестьянства с аграрной перенаселенностью не была вовсе бесплодной. Но все же в большинстве своем воронежские крестьяне пытались восполнить дефицит земельных ресурсов привычными методами народной экспансии. Во второй половине XIX в. велась интенсивная распашка выгонов, лесных угодий, лугов, сенокосов. За три десятка лет после отмены крепостного права пашня в Воронежской губ. увеличилась почти на 400 тыс. десятин или на 10%, население же выросло за эти годы почти на 40%. Размеры распаханных угодий стали превышать все разумные пределы. В результате положение земледельцев только ухудшилось. Сильное сокращение лесных и пойменных ресурсов обернулось ухудшением экологической обстановки. Земледельцы, отмечал в 1893 г. Ф.А. Щербина, «всюду почти в один голос показывали, что урожаи за последние годы понизились, что земля ухудшилась, что степей и лугов стало несоразмерно с другими угодьями меньше, что леса подверглись сильным истреблениям под влиянием непомерных запашек, что погода изменилась к худшему: ветра стали дуть чаще и порывистее, дожди выпадали внезапно в виде разрушительных ливней на небольших пространствах, а не тихих обложных дождей, как это было в старину, обильные мокрые туманы перестали появляться, а наоборот, участились сухие туманы, мгла, реки обмелели и засорились и т.п.” [12, с. 7-8]. Отчасти такие жалобы можно объяснить традиционными для обыденного сознания представлениями о том, что в прежние годы природа и люди выглядели лучше. Тем не менее зафиксированный Щербиной факт сугубо потребительского отношения к природе сомнений ни у кого не вызывал и объяснялся чрезмерным давлением экстенсивных методов хозяйствования на среду обитания.
Аграрное перенаселение и связанные с ним негативные явления в экономической и социальной жизни были тесно сопряжены с сохранением в воронежской деревне общинных принципов землепользования. Коллективное владение земельными угодьями к концу XIX в. полностью подтвердило опасения тех реформаторов, которые еще во время подготовки крестьянского освобождения предсказывали грядущую угрозу хозяйственному прогрессу в русской деревне. Конечно, вспоминал один из местных администраторов той поры, нашим «самобытникам» дороги круговая порука и коллективная земельная собственность с возможностью уравнительного передела. Но община поглощала личное право и личную ответственность крестьянина, при этом «общинное владение влечет за собой неизбежно, по-видимому, полный застой в хозяйственной культуре: ни травосеяния, ни хорошего выгона, ни правильного унавоживания - никакого улучшения община не допускает» [13, с. 23]. Общинный строй был неразрывно связан с господством патриархальных отношений в труде и в семейно-бытовой сфере. «Нигде, - отмечал тот же очевидец, - вы не увидите такого царства насилия, как в крестьянской семье, и это некоторыми называется патриархальным бытом. Все это работает до изнеможения, пьет иногда до беспамятства, ест впроголодь» [13, с. 10]. Община могла относительно устойчиво функционировать только при наличии земельного простора, позволявшего использовать трехпольную систему возделывания пашни, исчерпанность же земельных ресурсов неизбежно делала общину все более агрессивной, причем главным образом по отношению к частной собственности и к личной инициативе. Революционные потрясения начала ХХ в. наглядно продемонстрировали, какой грозный потенциал социального взрыва таится в русской поземельной общине.
Открытый указом 9 ноября 1906 г. и другими мероприятиями столыпинского правительства курс на индивидуализацию крестьянской земельной собственности должен был положить конец господству общины, открыть простор хозяйственной самодеятельности в деревне, ускорить переход к интенсивным формам земледелия на основе достижений современной агрикультуры и использования современной техники. В.И. Гурко, один из отцов новой аграрной политики, имел все основания утверждать, что община «принуждает своих членов равняться не по уровню знаний и предприимчивости наиболее развитых и энергичных своих членов, а наоборот, поневоле остается в области земледелия на уровне наименее знающих и несмышленых» [14, с. 160].
В Воронежской губернии нашлось немало энтузиастов новой политики. Перестройкой аграрных отношений энергично занимались члены землеустроительных комиссий, местная администрация, земские учреждения [15, с. 89]. Широкую просветительскую работу в деревне развернули десятки правительственных и земских инспекторов, агрономов, ветеринаров и других специалистов сельского хозяйства. Новое дело продвигалось с большим трудом. «Крестьяне, - замечал Ф.А. Щербина, - в большинстве своем даже не могут представить себе, чтобы общинное землевладение могло быть заменено иною формою владения и пользования. По крайней мере, на поставленный исследователями вопрос о том, не желает ли общество, или нет ли в нем отдельных лиц, желающих перейти к подворному землевладению, крестьяне отвечали в большинстве случаев не только отрицательно, но и с явным недоумением» [6, с. 147]. Многовековые привычки сломать было очень нелегко. Община была хорошо знакома, агрономы же звали к неизведанной жизни.
И все-таки реформы продвигались вперед. Как и предполагали организаторы преобразований, некоторые крестьяне молодых и средних возрастов (от 20 до 30% домохозяев) психологически были готовы перейти к новым принципам экономической жизни. Сторонники новой политики, безусловно, учитывали возросшую к началу ХХ в. мобильность сельского населения и крепнувшие желания предприимчивых крестьян освободиться от оков общинной регламентации. Социальные последствия преобразований заслуживают отдельного исследования. Здесь же стоит отметить, что из 400 тыс. крестьянских дворов Воронежской губернии хозяева примерно 135 тыс. изъявили к 1915 г. желание выйти из общины и закрепить причитавшиеся наделы в собственность [16, с. 113-114]. Еще несколько десятков тысяч домохозяев, живших в общинах, в которых не было коренных переделов земли со времени падения крепостного права, были по закону 1911 г. объявлены наследственными владельцами находившихся в их распоряжении наделов земли. Таким образом, не менее половины всех крестьянских хозяйств губернии к началу Первой мировой войны втянулись в процесс нового землеустройства.
Говоря о хозяйственных результатах развернувшегося реформирования, не забудем, что перестройка аграрных отношений в губернии (как и в России в целом) только начиналась. По расчетам правительства, индивидуализация крестьянской собственности должна была в основном завершиться к середине 1930-х гг., поэтому разговоры о полном успехе или, наоборот, о крахе реформ в данном случае представляются некорректными. Тем не менее анализ экономических показателей жизни воронежской деревни в условиях развернувшихся реформ мог обнадежить сторонников мирного обновления народной жизни.
Прежде всего, выяснилось, что перешедшие к индивидуальному землевладению крестьяне стали гораздо более внимательно относиться к пропаганде рациональных приемов обработки почвы. Если общинники, как правило, с недоверием относились к советам неожиданно появившихся в деревне агрономов и предпочитали держаться традиционной сохи и трехполья, то самостоятельные хозяева проявляли живой интерес к экономическим новшествам. Все чаще становились известными случаи успешного применения в хозяйствах специальных знаний. Так, в с. Папасном Богучарского уезда земский агроном устроил показательное поле на земле одного из крестьян, недавно покинувших общину. На второй же год это поле, по сравнению с соседними, дало доход в 1,5 раза больше. «Это получилось от того, - сообщали специалисты, - что агроном научил хозяина этого поля правильно разрабатывать и засевать землю, правильно распределять на ней растения (ввел четырехпольный севооборот) и завел травы на пару и в отдельном клину». Успех показательного поля вдохновил еще около 40 хозяев перейти к усовершенствованной агротехнике. И если в этом селе обычный годовой доход общинника от земледелия составлял около 300 руб., то у «новаторов» он достигал 450 руб. [17, с. 2-3].
Курс на рационализацию сельской экономики наносил удар по традиционным представлениям крестьян о способах и приемах землепользования. Под влиянием упорной просветительской работы специалистов-аграриев, в том числе и ознакомительных поездок групп крестьян в районы с культурным интенсивным хозяйством, воронежские крестьяне начинали постигать выгоды просвещенного труда. Как это ни удивительно, но только в начале ХХ в. воронежский крестьянин обнаруживал, что не только слепые силы природы, но и его собственные усилия способны повлиять на хозяйственные итоги года. Присущий русскому крестьянину фатализм и упование на волю Божью начинали уступать у вышедших из общины «единоличников» трезвому расчету и экономическому анализу. В том же Богучарском уезде некоторые крестьяне с. Талы воспользовались указом 9 ноября 1906 г., вышли из общины и перешли на хутора и отруба. Один из «новаторов» сообщал, что свой надел в 6 десятин он распределил следующим образом: полторы десятины отвел под озимую рожь, а остальные четыре с половиной выделил под зябь и вспахал осенью. В конце того же 1913 г. он пошел на курсы агронома М.М. Богословского, на которых понял, что жить по старинке больше нельзя, «потому что мы своим неразумным чередованием растений на полях сеем хлеб по хлебу и засоряем, истощаем землю, вследствие чего и получаются такие низкие урожаи хлебов, да еще наполовину с семенами сорных трав, главным образом с семенами овсюга”.
Агроном заложил на наделе этого крестьянина опытное поле и с весны 1914 г. ввел четыре клина: с паром, озимой рожью, пропашными и яровыми. Причем пар был двух видов: занятой, на котором была посеяна вика с ячменем на сено, и черный. Все лето пар поддерживался в чистоте, часть занятого была удобрена навозом. В дальнейшем все операции, включая лущение, боронование, отбор семян и т.п., крестьянин проводил по советам агронома. В итоге сельскохозяйственный год был завершен с хорошими результатами, которых не было и не могло быть у соседей-общинников с их традиционным трехпольем. «Поэтому, - заключал крестьянин-новатор, - мой совет отрубщикам и хуторянам, если они еще хозяйствуют по старинке, переходить скорее к четырехполью, и они получат благие результаты» [18, с. 23-24].
С появлением все более заметного слоя крестьян, принявших новые условия землепользования в губернии, естественно, возрастал сектор частного землевладения. Причем быстро увеличивалось именно крестьянское частное землевладение, поскольку дворянство по-прежнему неуклонно сокращало размеры своих имений. Такая мобилизация земельных угодий в руках крестьянина-частника сопровождалась все более устойчивым ростом сельскохозяйственного производства. О существенных сдвигах в экономических показателях аграрного сектора губернии можно судить, если сопоставить данные статистики. Сбор всех хлебов в 1907 г. в губернии составил около 76 млн пудов, при этом около 50,5 млн пудов было собрано на крестьянских наделах.. Если учесть, что на посев 1908 г. крестьяне отводили около 11 млн пудов зерна, то на собственные нужды у них оставалось около 39 млн пудов, что давало 13,8 пуда продовольственного зерна на человека. Кроме того, крестьяне располагали в 1907 г. 20,5 млн пудов картофеля (по 7,2 пуда на человека) [19, с. 11]. Надо учесть, что продовольственная норма на едока в год составляла, по данным земских статистиков, примерно 20 пудов в год (хлеба и картофеля). Таким образом, можно констатировать, что по сути дела весь собранный в 1907 г. урожай должен был уйти на собственное потребление крестьян-общинников. Ради этого, собственно, и существовала община.
Развернувшиеся преобразования сопровождались явным улучшением экономических показателей. Все три предреволюционных года показатели сбора хлебов и картофеля были в Воронежской губернии вполне благополучными. В 1914 и 1916 гг. общие сборы зерновых составили около 110 млн пудов, а в 1915 г. урожай вообще был очень хорошим (ок. 150 млн пудов), существенно более высоким, чем средний по меркам довоенного времени. При этом озимых хлебов было собрано свыше 63 млн пудов, яровых - около 72 млн пудов и картофеля свыше 33,4 млн пудов [20, с. 2-4]. Если учесть, что по расчетам авторитетного в ту пору экономиста А.В. Чаянова, потребительская норма хлебов в губернии составляла 18 пудов на едока в год, то для удовлетворения собственных продовольственных нужд требовалось около 55 млн пудов, из которых горожанам вполне хватало 2 млн пудов. На семена требовалось около 20 млн пудов. Следовательно, в губернии должны были оставаться ощутимые товарные хлебные ресурсы (от 35 до 75 млн пудов ежегодно).
Разумеется, крестьяне тоже должны были осенью часть урожая везти на продажу; надо было платить налоги, приобретать износившуюся часть инвентаря, кое-какие предметы потребления. Но при этом те же крестьяне весной становились самыми массовыми покупателями хлеба, поскольку действительных излишков у них все-таки не было. Все это свидетельствовало только об одном: рыночная конъюнктура не могла быть главным стимулом крестьянского общинного производства; смысл своего хозяйства общинник видел, прежде всего, в обеспечении своей семьи минимумом продовольственной и иной продукции. Общинное хозяйство, повторяем, никогда не было и не могло быть основой нормального рыночного обмена. Вот почему у современников не вызывал большого удивления тот факт, что буквально по всем культурам урожайность у частных землевладельцев в Воронежского губернии всегда была выше на 25-30%, чем у общинников. В том же 1907 г. урожайность озимых у владельцев была сам-8,4, у крестьян-общинников -сам-5,4, яровых у владельцев - сам-5,7, у общинников - сам-3,6, картофеля у владельцев - сам-7,8, у общинников - сам-5,2 и т.д. [20, с. 12]
Конечно, аграрный курс Столыпина форсировал раскол в деревне. Ставка делалась на деятельные слои крестьянства. Вышедшие из общины трудились с куда большей эффективностью. На этот факт обратил внимание воронежский помещик и видный государственный деятель С.И. Шидловский. «Появилось то, - вспоминал он, - чего я раньше допустить не мог, и что было, в сущности, совершенно нормально. Крестьянские земли оказывались обработанными лучше, чем мои, и урожаи у них отнюдь не ниже, а выше моих». Улучшения распространялись по мере выхода из общины и дальше, «ни в чем только не затронувши надельные земли». Общинники же, сетовал Шидловский, продолжали вести допотопное хозяйство. «Понятно, что, видя вокруг себя подобные явления, я не мог не прийти к заключению, что общинное распоряжение землею является самым крупным тормозом для улучшения земельной культуры, при каком мнении я и остаюсь до сего времени» [21, с. 36-37].
Дело, конечно, не в элементарной косности общинников. Экономика крестьянской общины носила закрытый и самодостаточный характер. На протяжении веков община помогала крестьянам выжить в суровой борьбе с природой и властями. Но, консервируя аграрную перенаселенность, та же община объективно не была заинтересована в производстве больших излишков сельскохозяйственной продукции. Если бы сотни тысяч крестьянских дворов Воронежской губернии вдруг резко повысили продуктивность своих полей, они тут же столкнулись бы с проблемой сбыта. Чрезмерные урожаи иногда оборачивались бедой, как это ни парадоксально кажется на первый взгляд. Так было, например, в 1897 г., когда губернатор В.З. Коленко с тревогой сообщал правительству о катастрофическом падении цен на зерно из-за высокого урожая и отсутствия спроса. Малому населению городов столько продукции не требовалось. Община уверенно себя чувствовала лишь на среднем уровне достаточности; большинство крестьян не было заинтересовано в высоких ценах на хлеб, напротив, они всегда учитывали, что им рано или поздно придется покупать его. Ситуация экономической безысходности порождала острое социальное беспокойство в деревне [22, с. 312].
Столыпинское реформирование было направлено на ликвидацию аграрной перенаселенности за счет целенаправленной поддержки хозяйственных инициатив крепких и трезвых крестьян-единолич-ников. Предполагалось, что промышленное и культурное развитие страны, развитие ее связей с внешним миром будут способствовать росту эффективности приватизировавшихся крестьянских хозяйств. Известные основания для оптимистических прогнозов у сторонников реформ были. Несмотря на значительное отвлечение рабочей силы из-за мобилизаций (в Воронежской губернии в армию были призваны почти 400 тыс. молодых крестьян), в 1915 г. сельскохозяйственное производство выглядело гораздо перспективней, чем в том же 1907 г. Озимых хлебов было собрано более 63 млн пудов, яровых -72 млн пудов, а всего, таким образом, 135 млн пудов, почти на 50 млн пудов больше, чем в год начала реформ [23, с. 3]. Столь внушительное увеличение производства сопровождалось симптоматичными переменами в аграрных отношениях. Прежде всего, в крестьянских хозяйствах наблюдался ощутимый рост товарности зернового производства. Крестьяне, например, стали заметно расширять посевы озимой пшеницы, культуры более продуктивной, чем рожь, но и требующей более совершенной агротехники. Так, в 1913 г. крестьяне израсходовали на семена пшеницы 71,5 тыс. пудов, в 1914 г. - 81,7 тыс. пудов, а в 1915 г. уже около 140,5 тыс. пудов. Таких подвижек при господстве общины не наблюдалось: для собственного продовольствия общинники сеяли исключительно рожь.
Очень важно отметить также, что общий рост производства сопровождался чувствительным сокращением помещичьего землевладения. Если в 1914 г. помещики заняли под озимые 223 тыс. десятин, то в 1915 г. - всего чуть больше 100 тыс. десяти. При этом озимые поля крестьян выросли на 125 тыс. десятин и достигли почти 770 тыс. десятин, т.е. почти в 8 раз больше, чем у помещиков [23, с. 6]. Примерно так же увеличивались крестьянские поля и под другими культурами. Эти явления полностью соответствовали общероссийским процессам. Перед Первой мировой войной крестьяне производили уже 92,6% совокупного продукта земледелия и животноводства по стоимости [24, с. 34].
На крестьянские хозяйства большее влияние стал оказывать рынок. Появление в губернии сахарных заводов привело к росту посевов сахарной свеклы, почти целиком отправлявшейся на продажу. В 1915 г. под сахарной свеклой в губернии было занято уже почти 20 тыс. десятин [23, с. 13]. Кроме того, все больше крестьян стали проявлять заинтересованность в выгодных для себя ценах на хлеб, поскольку его производство полностью покрывало потребности большинства семей. Можно, таким образом, констатировать, что сокращение удельного веса общинных хозяйств сопровождалось в губернии постепенным переходом к более эффективным методам хозяйствования. В деревне наметился поворот громадного исторического значения: впервые за многие века развитие земледелия начинало связываться не с экстенсивным его распространением, а с интенсификацией производства и подъемом культуры. У этого поворота были обнадеживавшие приметы: даже начавшаяся мировая война не нарушила поступательного роста крестьянской экономики. Как показывало время, затраты на сельское хозяйство довольно скоро приносили хорошие плоды. «Трехлетняя агрономическая деятельность, — с удовлетворением отмечалось в обзоре 1914 г., — не осталась без достаточных результатов: среди общей массы крестьян можно найти немало хозяев, которые завели уже улучшенные сельскохозяйственные орудия, породистый скот, разбили сады, применяют культурные способы обработки почвы и приемы по уходу за посевами и пр.; число таких крестьян с каждым годом увеличивается» [25, с. 12].
Позитивные перемены специалисты того времени отмечали без колебаний. Крупный знаток аграрных отношений А.В. Чаянов писал: «Изменение рыночной мировой конъюнктуры в сторону, благоприятную для сельского хозяйства, образование в России, благодаря развитию индустрии, внутреннего рынка для продуктов сельского хозяйства, быстрое развитие рыночных отношений и товарности крестьянского хозяйства, быстрый рост торгового капитализма, неудержимый рост кооперативного движения, неуклонное нарастание всяких организаций, содействующих сельскому хозяйству, и в особенности организаций агрономической помощи населению, - все это, появляясь вполне незаметно в форме всякого рода "попыток" и "интересных явлений", с каждым годом нарастало все более и более количественно, превращалось в массовое явление, и к началу войны наша деревня уже качественно была мало похожа на деревню прошлого столетия» [26, с. 49]. Еще раз подчеркнем: позитивные результаты были достигнуты в первую очередь в хозяйствах крестьян, прошедших через новое землеустройство. Их опыт служил примером, поэтому даже в 1915 г. землеустроительные губернии получили 13 011 ходатайств от крестьян по образованию единоличных владений [27, с. 10].
В немалой степени хозяйственным успехам отрубников содействовало развернувшееся в губернии массовое кооперативное движение. Кроме того, во время Первой мировой войны именно крестьянство извлекло наибольшие выгоды из введения в стране сухого закона. По многочисленным свидетельствам очевидцев, пьянство в деревнях Воронежской губернии с лета 1914 г. резко сократилось, а сохранившиеся средства крестьяне направляли на укрепление своих хозяйств. «Вследствие закрытия казенных винных лавок, — с удовольствием доносил Богучарский уездный исправник в октябре 1914 г., — все население трезво, усиленного разврата не замечалось и особо выдающихся каких-либо явлений, заслуживающих внимания, за истекший сентябрь месяц в Богучарском уезде не было» [28, л. 33]. При этом крепкие и самостоятельные хозяева отнеслись к сухому закону с гораздо большим сочувствием, чем общинники, для которых совместные выпивки давно стали нормой [29, с. 245].
Война заставила быстрее искать пути рационализации аграрного производства. В докладе Воронежской губернской земской управы отмечается, что недостаток рабочих рук заставил «сельского хозяина обратиться теперь же к возможно более широкой покупке соответственных орудий и машин, а также к введению у себя механической силы... Воронежский союз кредитных и ссудосберегательных товариществ в 1916 г. всего лишь через несколько месяцев после своего открытия сделал заказ свыше чем на 600 одних жаток, близко к этому заказала тех же жаток и губернская касса мелкого кредита, имевшая пропустить в 1916 г., в качестве распределительного пункта, кроме указанного количества, еще около 1500 жаток по заказам других учреждений. В 1917 г. Воронежский союз кредитных и ссудо-сберегательных товариществ и губернская касса мелкого кредита увеличили свои заказы с 600 до 800 жаток каждый. Кроме того, на 1917 г. союз кредитных кооперативов сделал заказ свыше 1 млн руб. на разного рода орудия, а губернская касса мелкого кредита исчисляет свой заказ. свыше чем на 3 млн руб.» [30, л. 37].
Одновременно земцы с горечью констатировали, что возникшие во время войны проблемы с товарообменом вызваны плачевным состоянием отечественной обрабатывающей промышленности. «Война, — говорилось далее в докладе, — показала, как бедна Россия, несмотря на громадные природные богатства её. Небольшие запасы фабрично-заводских продуктов, в значительной части своей заграничного происхождения, быстро были израсходованы и население оказалось лишенным самых необходимых товаров, вроде кожи, мыла, свечей, сахара, красок, чернил, бумаги, спичек и т.д.». Кончится война, сетовали земские экономисты, «и если жизнь не будет построена по-новому, нагрянут в Россию иностранцы: американцы, англичане и, конечно, немцы. Снова наступит то или иное “засилье”, в действительности засилье нашей косности и отсталости. Опять русское сырье высокого качества будет отдано иностранным предприятиям внутри и вне России, а за это русские потребители получат второсортные фабрикаты за тройную цену” [30, л. 47].
Словом, до решительных сдвигов в сторону интенсивного сельского хозяйства в губернии было еще далеко. Большинство крестьян продолжало держаться общинных традиций и надежды на улучшение своего положения связывало с перераспределением земельной собственности. Коренная реконструкция сельского хозяйства не могла быть совершена только за счет аграрных преобразований, и тем более его нельзя было разрешить путем дополнительного наделения крестьян землей за счет более культурных частновладельческих хозяйств [31, с. 19]. Стимулировать повышение эффективности должно было ускоренное развитие промышленности и путей сообщения, городской инфраструктуры и связанное с такими процессами радикальное изменение структуры общества. Мировая война и разразившийся на ее исходе вихрь революционных потрясений прервали нелегкое реформирование. При советской же власти проблема избыточного аграрного населения решалась специфическими методами административно-командного свойства.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Ковальченко, И.Д. Столыпинская аграрная реформа (мифы и реальность) [Текст] / И.Д. Ковальченко // История СССР. - 1991. - № 2.
2. Macey, D. Agricultural Reform and Political Change: the Case of Stolypin / D. Macey // Reforms in Modern Russian History: Progress or Cycle? - Cambridge (Mass.), 1995.
3. Пэллот, Дж. Разрушила ли общину столыпинская реформа [Текст] / Дж. Пэллот // Отечественные записки. Журнал для медленного чтения. - 2004. - № 1. (Автор не раз отмечала сопротивление крестьян попыткам реформировать общину. Гораздо меньше внимания она уделяет тем крестьянам, которые проявили большую заинтересованность в успехе той же реформы. См.: Pallot, J. Land Reform in Russia. 19061917. Peasant Responses to Stolypin’s Project of Rural Transformation. - Oxford, 1999.)
4. Мацузато, К. Столыпинская реформа и российская агротехнологическая революция [Текст] / К. Мацузато // Отечественная история. - 1992. - № 6.
5. Иванов, А.А. Аграрное перенаселение в Центрально-Черноземном регионе России начала ХХ в. и его последствия [Текст] / А.А. Иванов // Проблемы исторической демографии и исторической географии Центрального Черноземья и Запада России : материалы научной конференции. - Липецк, 1998.
6. Щербина, Ф.А. Крестьянское хозяйство по Острогожскому уезду [Текст] / Ф.А. Щербина. - Воронеж, 1887.
7. Небольсин, А.Н. Переселенческое движение крестьян из Воронежской губернии [Текст] / А.Н. Небольсин. - Воронеж, 1928.
8. Журналы Воронежского губернского собрания очередной сессии 1913 г. [Текст]. - Воронеж, 1914.
9. Скиада, М.М. Производство крестьянских сапогов в слободе Бутурлиновке Воронежской губернии [Текст] / М.М. Скиада // Памятная книжка Воронежской губернии на 1878-79 гг. - Воронеж, 1879.
10. Воскресенский, П.В. Кустарные промыслы в Нижнедевицком уезде, имеющие характер отхожих промыслов [Текст] / П.В. Воскресенский // Памятная книжка Воронежской губернии на 1878-79 гг. - Воронеж, 1879.
11. Миронов, Б.Н. Социальная история России [Текст] / Б.Н. Миронов. - СПб., 1999. - Т. 1.
12. Щербина, Ф.А. Хозяйственные нужды Воронежского края [Текст] / Ф.А. Щербина // Протокол заседания членов Воронежского отделения Императорского московского общества сельского хозяйства. Воронеж, 1893.
13. Новиков, А.И. Записки земского начальника [Текст] / А.И. Новиков. - СПб., 1899.
14. Гурко, В.И. Черты и силуэты прошлого. Правительство и общественность в царствование Николая II в изображении современника [Текст] / В.И. Гурко. - М., 2000.
15. Карпачев, М.Д. Воронежское земство и аграрные реформы начала ХХ века [Текст] / М.Д. Карпачев // Общественная жизнь Центрального Черноземья России в XVII - начале ХХ века. - Воронеж, 2002.
16. Гульцев, Н.Н. Столыпинская аграрная реформа в Воронежской губернии и ее крах : дис. ... канд. ист. наук [Текст] / Н.Н Гульцев. - Л., 1952.
17. От кого зависит полезность агронома [Текст] // Вестник Богучарского общества сельского хозяйства. -
1915. - № 5.
18. Письмо крестьянина-отрубщика [Текст] // Вестник Богучарского общества сельского хозяйства. - 1915. -№ 12-13.
19. Обзор Воронежской губернии за 1907 г. [Текст]. - Воронеж, 1908.
20. Обзор Воронежской губернии за 1915 год [Текст]. - Воронеж, 1916.
21. Шидловский, С.И. Воспоминания (1861-1922) [Текст] / С.И. Шидловский. - Берлин, 1923. - Ч. 1.
22. Воронежские губернаторы и вице-губернаторы [Текст]. - Воронеж, 2015.
23. Обзор Воронежской губернии за 1915 г. [Текст]. - Воронеж, 1916.
24. Кабаков, В.В. Пути и бездорожье аграрного развития России в ХХ веке [Текст] / В.В. Кабаков // Вопросы истории. - 1993. - № 2.
25. Обзор Воронежской губернии за 1914 год. [Текст]. - Воронеж, 1915.
26. Чаянов, А.В. Бюджетные исследования: история и методы [Текст] / А.В. Чаянов. - М., 1929.
27. Постановления Воронежского губернского земского собрания по экономическим вопросам [Текст]. - Воронеж, 1916.
28. Государственный архив Воронежской области (далее - ГАВО). Ф. 6. Оп. 2. Д. 405.
29. Астырев, Н.М. В волостных писарях. Очерки крестьянского самоуправления [Текст] / Н.М. Астырев. -М., 1886.
30. ГАВО. Ф. 20. Оп. 1. Д. 10084.
31. Рогалина, Н.Л. Аграрный кризис в российской деревне начала ХХ века [Текст] / Н.Л. Рогалина // Вопросы истории. — 2004. — № 7. (Истоки аграрного кризиса Н.Л. Рогалина справедливо объясняет не многоземельем помещиков, а слабым разделением труда и недоразвитой профессиональной дифференциацией.)
ПАДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ СРЕДИ СОЛДАТ 8-й ПЕХОТНОЙ ЗАПАСНОЙ БРИГАДЫ ЛЕТОМ 1917 ГОДА_
аспирант кафедры истории России,
Воронежский государственный университет
АННОТАЦИЯ. Рассматривается вопрос падения дисциплины и дезертирство солдат 8-й пехотной запасной бригады летом 1917 г. Расположенная в тыловой губернии бригада тем не менее оказалась подвержена процессам морального разложения. Основную массу беглецов составляли солдаты из уездов, находившихся недалеко от места расположения частей бригады.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 1917 г., Февральская революция, дезертирство, тыловые части, Воронежская губерния, солдаты, Первая мировая война.
Postgraduate Student of the Department of Russian History,
Voronezh State University
ABSTRACT. The article deals with the question of discipline decline and desertion among soldiers of the 8th infantry reserve brigade in the summer of 1917. Located in the rear province, the brigade, nevertheless, was also exposed to the processes of moral decay. The bulk of the fugitives were soldiers from the counties, found near the location of the brigade units.
KEYWORDS: 1917, February revolution, desertion, rear units, Voronezh province, soldiers, World War One.
Изучение поведения солдатских масс в 1917 г.
представляет научный интерес в силу хронологического наложения двух событий, оказавших серьёзное влияние не только на армию, но и на всё российское общество в целом, - Первой мировой войны и Февральской революции, в которых солдаты, естественно, принимали самое непосредственное участие. Кроме того, в запасных частях, как правило, служили солдаты старших возрастов, не только не желавшие проходить службу, но и не понимавшие смысла службы в своём возрасте. Сумма этих обстоятельств делает запасные части привлекательными для изучения, и 8-я пехотная запасная бригада представляет собой в этом отношении характерный пример типичных процессов, происходящих в тыловой части. Вопрос о том, какие процессы протекали в военных гарнизонах, расположенных на территории губернии, интересен и по другой причине: солдаты представляли собой ударную силу большевиков во время Октябрьской революции. Именно с помощью солдат большевиками был осуществлён переворот в Воронеже. Подобная схема использовалась и в уездных городах: достаточно сказать, что из пяти уездов Воронежской губернии, которые ранее других провели локальные перевороты, в четырёх располагались военные гарнизоны.
Цель данной работы - установить примерные масштабы дезертирства из 8-й пехотной бригады, возможные причины этого явления на территории дислокации бригады летом 1917 г. в Воронежской губернии, а также дать характеристику общего падения солдатской дисциплины.
Источниковую базу составляют документы из фонда И-104 (фонд Временного правительства) Государственного архива Воронежской области, в котором собраны документы, касающиеся розыска дезертиров по Воронежской губернии в 1917 г., из фонда Р-2393 (фонд Воронежского Совета РСКД), а также дела из фонда № 5 Государственного архива общественно-политической истории Воронежской области. К сожалению, по ряду причин, в том числе по причине гибели многих документов в период оккупации Воронежа немецкими войсками, многие сведения оказались утеряны, поэтому оставшиеся архивные дела дают отрывочную и, по всей видимости, неполную информацию, что связано, кроме прочего, и с тем, как вели статистику касательно дезертиров современные эпохе работники соответствующих канцелярий. Не сообщает почти никаких сведений по рассматриваемому вопросу и местная печать.
При рассмотрени вопроса, вслед за предшественниками, посвятившими свои исследования аналогичным темам, учитывалось, что солдатская масса - это не оторванная от действительности уникальная социальная единица, а совокупность людей, на чьё сознание влияли прежде всего особенности среды, в которой они жили до своего призыва в армию, оказавшуюся в условиях слома не только старого общественного строя, но и в условиях ослабления механизмов, которые сдерживали асоциальные инстикты (одним из первых этот аспект революции подметил выдающийся российский социо-
Информация для связи с автором: zverkovphd@yandex.ru
лог Питирим Сорокин). При отборе материала внимание уделялось не только архивным делам, в которых собраны документы о жизни гарнизона, но и тем документам, периодике, исследованиям, которые не были напрямую посвящены жизни бригады, но которые так или иначе косвенно отражали происходившие в ней процессы.
Сама по себе проблема дезертирства и разложения русской армии в период Первой мировой войны уже не одно десятилетие привлекает к себе внимание как отечественных, так и зарубежных исследователей.
Работы по указанной тематике продолжают выходить из-под пера крупнейших отечественных специалистов, в том числе проблема дезертирства затронута в нескольких трудах известного специалиста по истории России начала ХХ века В.П. Булдакова, например в его труде «Красная смута: Природа и последствия революционного насилия» [1], а также в одном из его новых исследований «Война, породившая революцию: Россия, 1914-1917 гг.» [2]. Кроме того, подробный анализ ситуации в армии того периода провел в своих исследованиях
А.Б. Асташов, рассмотревший, помимо всего прочего, такую важную проблему, как служба в рядах армии выходцев из крестьянского сословия. Особое внимание анализу дезертирства и общего падения дисциплины уделено в его монографии «Дезертирство и борьба с ним в царской армии в годы Первой Мировой войны» [3]. Общая ситуация в Российской армии (в качестве одной из наиболее упоминаемых работ на этом направлении можно указать широко известную работу Н.Н. Головина «Военные усилия России в Мировой войне» [4], а также пусть и менее популярный, но интересный труд атамана Семёнова [5]) была рассмотрена в ещё одной монографии А.Б. Асташова - «Русский фронт в 1914 - начале 1917 года: военный опыт и современность» [6], в которой автор уделяет, помимо всего прочего, большое внимание психологической стороне войны и мировоззрению солдат.
Тема дезертирства, его причин и условий рассматривается также в работах современного исследователя М.В. Оськина, в частности в статье «Российские дезертиры Первой мировой войны» [7]. Ещё один аспект проблемы, который поставлен на изучение, - это борьба с дезертирами как одна из сфер деятельности российской полиции. С докладом на эту тему в 2013 г. выступил на конференции в г. Тула М.В. Оськин [8]. Среди других современных авторов, работающих над этой проблемой, стоит отметить О.С. На-горнову [9], которая, однако, в большей степени рассматривает проблемы не дезертиров, а военнопленных. Что касается непосредственно обстановки в 8-й бригаде, то данная тема косвенно затронута в диссертационном исследовании С.А. Беляева «Дислокация воинских частей и их участие в революционных событиях Центрального Черноземья в начале ХХ столетия: 1900 - октябрь 1917 г.» [10].
В советский период тема дезертирства и общего падения дисциплины в местных соединениях опускалась, так как именно благодаря солдатам стало возможным произвести Октябрьский переворот в Воронеже, поэтому разрушение ореола солдата-революционера сознательно не допускалось. Если говорить об изучении политического аспекта в жизни солдатской массы региона, то здесь стоит отметить труды Л.Г. Протасова [11], П.Н. Соболева [12], И.Г. Воронкова [13]. Отдельные работы, как например статья Р.Н. Иванова [14], посвящены вопросу дезертирства на территории Воронежской губернии в период, непосредственно предшествовавший Февральской революции. В целом же эта узконаправленная тема подробно не рассматривалась в трудах местных историков.
Основную массу войск в Воронежской губернии к 1917 г. представляли военнослужащие 8-й пехотной запасной бригады [15, л. 576]. Её части были расквартированы следующим образом: в Коротояке стоял 20-й пехотный запасный полк, 58-й пехотный запасный полк, который находился под влиянием социал-демократов, размещался в Воронеже. Там же стоял и 5-й пулемётный полк, состоящий по большей части из сибиряков [13, с. 94] и так же сочувствовавший большевикам. В Острогожске размещался 184-й пехотный запасный полк, в Боброве
- 185-й пехотный запасный полк, 212-й пехотный стоял в Усмани и ещё один полк - 268-й - был расквартирован в Борисоглебске. Помимо этого, имелось ещё несколько небольших гарнизонов.
Как уже упоминалось, сведения о дезертирстве отрывочны, но и на основании имеющихся документов можно сделать определённые выводы. Даже беглого взгляда на документы достаточно, чтобы понять, что наиболее часто оставляли службу солдаты полков, которые квартировались недалеко от места проживания солдат до службы. Например, 10 августа из 268-го пехотного полка дезертировали 6 представителей близлежащего уезда [16, л. 192-197], через две недели тот же полк покинули ещё шесть человек из того же самого уезда [16, л. 240-245], а затем ещё несколько человек [16, л. 262]. За три недели (с конца августа по середину сентября) из 123-го пехотного запасного полка дезертировали 25 выходцев соседнего уезда [16, л. 251-261, 287-297].
Бежали группами, зачастую жители одного уезда, а нередко и одного села. Причины могут быть вполне простыми: вместе бежать проще чисто психологически, а коллективность поступка как бы снимала индивидуальную ответственность и одновременно уменьшала уровень потенциального осуждения в родном селе.
Иногда с целью морального воздействия предлагалось сообщать о подобном поступке на сельском сходе [16, л. 86]. Кроме того, семья оставившего службу солдата лишалась солидного денежного довольствия на каждого члена семьи призванного (включая родителей, деда, бабку, а также в отдельном случае братьев и сестёр), которое получали в соответствии с законом 25 июня 1912 г. [17, с. 158].
Волна самовольных уходов из полков возросла именно в августе, в период начала уборки урожая. В архивах можно встретить в этот же период просьбы от солдат уйти в отпуск на время летней страды, что шло несколько вразрез с решениями органов власти, которые не соглашались отпускать солдат на уборку урожая в собственные уезды.
На грани дезертирства находилась деятельность некоторых солдат в Совете, который оказывал покровительство своим членам перед военным начальством. Защита, особенно от отправки в действующую армию, распространялась в том числе и на большевиков, которые оказались на острие политических ударов эсеров после июльских событий в Петрограде. Например, не единожды командиром 58-го полка делалась попытка выслать на фронт большевика Ивана Чуева, входившего в Исполнительный комитет Воронежского Совета [18, л. 170]
- в дальнейшем советского государственного деятеля. Совет, однако, высказался категорически против. Несмотря на то, что командир полка апеллировал к решению полкового комитета (который после июльских событий был очищен от большевиков) [4, с. 51], Совет парировал, что «полковой комитет полномочий (И. Чуеву) не давал и лишать их не может» [19, л. 84].
Если более молодые солдаты, такие как Чуев, которому в ноябре 1917 г. исполнилось только 27 лет, активно участвовали в политической деятельности, то солдаты старших возрастов требовали демобилизации, ссылаясь на возраст.
Поведение солдат в тот период приняло хулиганский характер: они высаживали с поездов пассажиров, ездили на крышах [20, л. 68]. Пытаясь бороться с этой проблемой на территории Воронежа, полковник Языков от имени начальника Воронежского гарнизона издал приказ о назначении специальных караулов на территории железнодорожных вокзалов.
С учётом падения дисциплины широкое распространение получили так называемые «самоволки», в которые перманентно уходили солдаты запасных полков. Начальник Воронежского гарнизона полковник Вознесенский в одном из своих приказов выразил озадаченность слишком частыми посещениями солдатами гарнизона местных борделей [20, л. 238].
В целом же, по информации командира бригады, из пяти полков в течение августа самовольно убыло 174 человека [21, л. 82 об.].
Кроме того, дезертировавшие солдаты создавали разного рода неприятности жителям уездов, что послужило причиной устройства облав на дезертиров, так как проблема приобрела значительный размах, что отметил и губернский комиссар Борис Келлер. По его сведениям, дезертирами (скорее всего, прибывшими с фронта) была вырезана семья священника в Землянском уезде. Также сотни убывших из своих частей устраивали беспорядки и в том числе насилия над женщинами в различных уездах губернии [22].
Таким образом, войска 8-й пехотной бригады, да и всего Воронежского гарнизона, продемонстрировали значительное падение дисциплины, которое выразилось в двух основных формах: дезертирстве и самовольном оставлении места службы на короткий срок. Это стало одной из причин роста преступности и нестабильности в губернии. Падение дисциплины встречалось практически повсеместно в Воронежском гарнизоне. Остановить этот процесс не могли ни эсеры, которые вплоть до начала осени имели решающее влияние на солдат, что нашло своё отражение в составе Военной секции Воронежского Совета, ни большевики, которым удалось в конечном итоге переломить ситуацию в свою пользу. Не встречается, однако, сведений о дезертирстве бойцов 5-го пулемётного полка, составленного из сибиряков. Примечательно, что именно он стал ударной силой воронежских большевиков во время силового захвата власти в Воронежской губернии.
МАРКОВЧИН Владимир Владимирович,
кандидат исторических наук, доцент,
Юго-Западный государственный университет; старший научный сотрудник,
Научно-исследовательский институт (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации;
ЕМЕЛЬЯНОВ Алексей Сергеевич,
кандидат юридических наук, доцент,
Юго-Западный государственный университет
АННОТАЦИЯ. Исследуется публикация аналитического обзора о положении русской эмиграции, подготовленного в конце 1921 г. Высшим монархическим советом.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: русская эмиграция, организационные и политические структуры, Высший монархический совет, Европа, русская политика.
MARKOV CHIN V.V.,
Cand. Hist. Sci., Docent,
Southwest State University;
Senior Researcher,
Research Institute (of Military History),
Military Academy of General Staff of the Armed Forces of Russia;
EMELYANOV А^.,
Cand. Jurid, Sci., Docent,
Southwest State University
RUSSIAN EMIGRATION ABROAD AND ITS POLITICAL ACTIVITY
ABSTRACT. The work contains the publication of an analytical review on the situation of Russian emigration, prepared in late 1921 by the Supreme Monarchical Board.
KEY WORDS: Russian emigration, organizational and political structures, Supreme Monarchical Board, Europe, Russian politics.
Входе реализации беспрецедентного по своим объемам и масштабам десятитомного научноиздательского проекта «Русская военная эмиграция 20-40-х годов ХХ века. Документы и материалы» [1] через руки участников рабочего коллектива прошли десятки тысяч текстов, так или иначе связанных с различными аспектами истории русской эмиграции. Публикуемый в настоящей статье аналитический документ [2] был создан в конце 1921 г., когда европейская часть русской эмиграции уже организационно оформила свое присутствие в Европе, а на Востоке континента этому процессу еще предстояло завершиться. Сформированный несколькими месяцами ранее Высший монархический совет72 подготовил данный обзор с целью информирования собственных структур, расположенных в различных государствах Евразии. Отпечатанный мелким шрифтом на двух листах рисовой бумаги (с оборотами) документ был практически невесомым, и потому его очень удобно было пересылать по почте либо перевозить с оказией куда 74 угодно, включая Советскую Россию. Обзор информировал заинтересованных лиц о состоянии дел в среде русских эмигрантских организаций, продолжавших и в новых условиях заниматься русской политикой, а также ориентировал монархические круги в том, с какими из этих организаций возможна какая-либо созидательная совместная деятельность. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, документ достаточно информативен. На нем отсутствует ограничительный гриф, но вместе с тем его содержание явно не было предназначено для широкого круга читателей, поскольку в какой-то мере приподнимало завесу таинственности над весьма сложной эмигрантской политической кухней, в которой ориентироваться было весьма непросто.
Главный вопрос, поднятый в тексте, - вопрос власти. В каждом эмигрантском центре имелся собственный взгляд на данную проблему. Его формировали различные силы, начиная от представителей левых организаций, недавних соратников большевиков по осуществлению Октябрьского переворота, и заканчивая кадетами, октябристами и членами иных партий, своей политической деятельностью в прежние годы способствовавших падению монархического строя в стране.
Информация для связи с авторами: markovchin@yandex.ru, emelyanov46@mail.ru
Выводы, сделанные авторами обзора по итогам анализа текущей обстановки в России и в эмигрантской среде, довольно однозначны: корыстные амбиции различных политических сил в их стремлении в будущем захватить власть игнорируют истинные интересы России, ведут к отсутствию единства русской эмиграции, что заставляет население страны рассчитывать в первую очередь на свои собственные силы.
Публиковавшиеся следом данные из Парижа, Белграда, Константинополя, Берлина, Праги и Варшавы служили подтверждением сделанных выводов. Итак, по мнению Высшего монархического совета, политическая ситуация в среде русской эмиграции выглядела следующим образом.
«Давнейшими75 центрами русской эмиграции в Западной Европе являются: Париж, Белград, Берлин, Прага, Варшава и Константинополь; в этих же центрах и проявляется главным образом политическая деятельность русской эмиграции. В остальных значительных центрах Западной Европы (Лондон, Рим, Стокгольм, Копенгаген, Вена, Будапешт, Бухарест и др.) русские эмигрантские колонии весьма немногочисленны и не играют заметной роли в русской политической жизни. На Дальнем Востоке наибольшее значение имеют русские эмигрантские колонии в Токио76 77 и отчасти в Шанхае.
Характерной чертой политической жизни русской эмиграции является наружное стремление к политическому объединению в целях борьбы с большевизмом, ведущее, однако, в действительности лишь к еще большему разъединению. Причина этого печального явления кроется главным образом в том обстоятельстве, что все русские политические партии, представленные за границей, в тайниках своей души стремятся преимущественно к одному -быть у власти после падения большевистского режима. По этой коренной причине политические партии не могут, конечно, сговориться друг с другом и не только не способны к совместной работе, но, относясь к другим политическим партиям с полным недоверием, лишь усиливают взаимную рознь. Явление это проявляется, однако, с различной силой в различных эмигрантских центрах; в тех, где эмигранты более однородного состава по своим политическим убеждениям и принадлежности к общественным классам, рознь проявляется особенно резко. К первой категории относятся такие центры, как Белград, Константинополь и отчасти Париж с Варшавой, ко второй категории -главным образом Париж и Берлин.
В своих партийных раздорах и борьбе за будущую власть политические деятели и партии совершенно забывают наиболее существенное, а именно то, что внутри России партийная жизнь и тактика почти более не существует, за исключением, конечно, партии коммунистов, что в России имеются в настоящее время лишь два политических лагеря -сторонники и противники большевиков, что объединение там на почве борьбы с большевиками произошло естественным путем и что вопрос будущей власти не играет там такой роли, которую играет в русских эмигрантских кругах.
Особенной нетерпимостью к своим политическим противникам в русской заграничной колонии отличаются левые партии: социал-революционеров и кадетов Милюковского толка; социал-демократы проявляют себя мало, а более правые политические партии (правые кадеты, монархисты всех оттенков) проявляют в своих выступлениях и действиях несравненно более терпимости к левым партиям, чем последние. И в этом явлении главную роль играет стремление к будущей власти. Главари левых партий, а отчасти и некоторых умеренных, достигнув власти после Февральской революции и не сумев ее удержать в своих руках, не могут примириться с тем, что большевики, силу которых они своевременно не оценили, вырвали у них эту власть; отсюда их недоверие и вражда к правым партиям, в которых они видят ныне самых опасных соперников при создании будущей власти, а следовательно и необходимость для левых, забыв большевиков, для них неопасных уже конкурентов, начать решительную борьбу со своими конкурентами справа. В результате этого печального явления истинные интересы России и ее населения нередко приносятся в жертву партийной борьбе за будущую власть или же происходящие внутри России явления используются для укрепления своей позиции в борьбе с политическими противниками.
На основании всего вышеизложенного населению России не следует возлагать преувеличенных надежд на русскую эмиграцию, правильно оценивать корыстные цели ее политической работы, рассчитывать более на свои собственные силы и уже заблаговременно оградить себя на случай падения большевиков от нашествия новых политических демагогов, которые неминуемо в этом случае попытаются захватить власть и сделать ее узкопартийной.
В частности, политическая жизнь и деятельность русской эмиграции в различных заграничных центрах может быть обрисована в следующем виде.
1. Париж. В Париже в настоящее время имеются следующие политические группировки: а) Пар-ламентскии комитет4, являющийся старейшим по времени из существующих ныне политических органов, созданных с целью объединения различных политических русских течений; комитет этот был выделен созванным в 1920 году в Париже совещанием членов всех четырех Государственных Дум и выборных членов Государственного Совета. Председателем его является А.И. Гучков. Объединения этот комитет не создал, авторитета в глазах французского правительства не приобрел и какой-либо заметной политической работы не проявил. Деятельность его постепенно замирает, и итог ее сводится лишь к нескольким резолюциям по некоторым русским вопросам; б) Исполнительный комитет совещания членов Учредительного Собрания, выделенный созванным в настоящем году в Париже совещанием членов Учредительного Собрания, которые собрались в весьма ограниченном числе, и почти исключительно левых политических партий. Этот комитет уже по своему составу не мог послужить делу объединения, и деятельность его проявляется исключительно в узкопартийной (с.-р. и левых кадет) области. Все попытки других политических группировок привлечь этот комитет к объединенному выступлению русской эмиграции, как будет изложено ниже, не привели к положительным результатам. Во главе этого комитета стоят Авксентьев и Милюков; в) Русский национальный коми-
тет5, выделенный созванным по инициативе
В.Л. Бурцева в настоящем году в Париже съездом Русского национального объединения, но также не давший этого объединения. В этом комитете представлены все политические течения русской эмиграции, кроме крайних правых, социал-революционеров и кадет Милюковского толка. Съезд по окончании своей работы вынес целый ряд резолюций по всем животрепещущим русским вопросам, которые и должны были служить руководящим основанием для дальнейшей работы комитета. Но так как эти резолюции в большинстве представляли собой не выражение настроений съезда, а компромиссы в целях удержания в составе съезда более левых его участников и возможного сотрудничества с его более левыми русскими элементами, то и работа комитета, основанная на компромиссах, вообще не жизненных, не может быть также плодотворна и не приведет к объединению. До настоящего времени работа комитета не дала каких-либо практических результатов. Председателем комитета состоит Карташев; г) Союз освобождения и возрождения России6, возникший также лишь в настоящем году и имеющий в своем составе почти исключительно умеренных монархистов. Союз этот, весьма однородный по составу, сравнительно редко выступает со своими резолюциями, работает без шума, большой деятельности также не проявляет, но делегаты его участвуют почти во всех попытках к объединению русских эмигрантских кругов; д) «Русский Очаг»7, объединяющий монархистов, публично не выступает и носит, скорее, характер политического клуба. Внешне выступает крайне редко. В последнее время уделяет много внимания издательской деятельности. «Русский Очаг», не проявляя свойственной левым группировкам политической нетерпимости, в то же время не ищет и сближения с ними и стоит особняком.
Кроме вышеперечисленных политических группировок, в Париже имеются еще следующие организации, хотя и не политического характера, но тем не менее выступающие иногда с политическими заявлениями: а) Торгово-промышленный союз8,
объединяющий русские торговые и промышленные круги и представляющий собой довольно мощную организацию; б) Банковский комитет9, объединяющий русских банковских деятелей; в) Комитет зем- 78 79 80 81 82 83 84 85 ско-городского объединения10, в сущности не являющийся вовсе голосом объединенного земства и городских самоуправлений, так как комитет образовался из представителей земств и городов лишь определенного политического направления и допускает в свою среду вновь лишь по весьма строгой баллотировке; г) в противовес последнему в Париже образовался по инициативе Кузьмина-Караваева Комитет земских и городских гласных, без особой политической окраски; д) Совещание послов11, не имеющее определенно политического характера, но являющееся выразителем мнения сохранившихся еще русских дипломатических представительств за границей. Председателем этого совещания состоит М.Н. Гирс.
В самое последнее время в Париже были вновь сделаны попытки объединить русские политические и общественные круги на двух совершенно определенных вопросах: оказание помощи русским беженцам за границей и борьба с голодом в России.
Инициативу в попытке объединить русские круги в деле оказания помощи русским беженцам взяло на себя Главное управление Российского Общества Красного Креста12 в Париже, которое как орган совершенно аполитичный обратилось ко всем русским политическим, общественным и профессиональным организациям в Париже с приглашением прислать своих представителей с целью согласования их действий в деле доставления созываемой по решению Совета Лиги Наций особой конференции по вопросу русских беженцев, необходимых материалов и заключений. Первое заседание этого совещания по делам о беженцах состоялось 21-го июля сего года при участии представителей от 14 организаций; исполнительный комитет совещания членов Учредительного Собрания уклонился от участия в совещании, и, таким образом, полного объединения достигнуто не было. После несколько странного выступления представителей Земскогородского комитета, имевшего, по-видимому, целью воспрепятствовать избранию председателем совещания председателя Совета послов М.Н. Гирса, последний все же был избран председателем совещания и под его руководством будут происходить дальнейшие заседания. На этом же, первом заседании цель совещания была определена следующим образом: объединить и согласовать действия русских организаций в Париже в деле подготовки материалов и положений по вопросам устройства русских беженцев в связи с конференцией представителей иностранных правительств по этим вопросам.
Вторая попытка к объединению в вопросе борьбы с голодом в России была сделана целым рядом
10 Имеется в виду учрежденное летом 1920 г. в Париже белыми эмигрантами Объединение земских и городских деятелей за границей. В январе 1921 г. на парижском совещании представителей местных организаций бывшего Земгора, представительств земских и городских союзов в Англии, США, Швеции, а также Объединения земских и городских деятелей за границей был принят устав Российского земско-городского комитета помощи российским гражданам за границей (РЗГК), определено число членов комитета и проведены выборы.
11 Совещание послов (Совет послов) - постоянный консультативный орган, состоявший из бывших российских послов царского времени и Временного правительства. В него входили М.Н. Гирс (председатель), Б.А. Бахметьев, К.Д. Набоков и другие.
12 Имеется в виду руководство общественной благотворительной организации, которая являлась участником международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца еще с царских времен.
русских политических и других организаций в Париже. Однако эта попытка также не увенчалась успехом, и вместо одного комитета в Париже образовалось два параллельных комитета: один из представителей Национального комитета, Парламентского комитета, Союза освобождения и возрождения России, Русского Красного Креста и Совета послов и другой из представителей Исполнительного комитета совещания членов Учредительного собрания во главе с Авксентьевым и Милюковым. Хотя оба комитета вынесли почти тождественную резолюцию по вопросу борьбы с голодом в России, тем не менее слиться во единый союз и забыть перед лицом ужасающего бедствия, постигшего Россию, свои политические распри они не сочли возможным и продолжают работать параллельно. Конечно, и в данном случае решающую роль сыграла боязнь, что политические враги могут захватить власть в комитете и основать на этом будущий захват власти в России.
Таким образом, рассчитывать на объединение русских эмигрантских кругов в Париже совершенно не приходится.
2. Белград. Вторым наиболее крупным центром русской эмиграции после Парижа является Белград, в котором сосредоточены главным образом эмигранты из военного и служилого класса. Такой состав эмиграции, конечно, наложил отпечаток на характер ее политической мысли и деятельности. Хотя в Белграде и нет русских политических организаций, тем не менее вся эмигрантская масса, соединившаяся в многочисленные общества - профессиональные и взаимопомощи, по своему политическому настроению весьма однообразна и может быть подведена к программам партии националистов и октябристов дореволюционной России. Вся эмигрантская масса, за небольшими, конечно, исключениями, настроена монархически и относится совершенно отрицательно к соглашательской работе русских политических организаций Парижа и других центров. Органом печати русской эмиграции в Сербии является газета «Новое Время». Благодаря исключительно доброжелательному отношению Сербского Правительства и населения к русским эмигрантам, последним живется в Сербии лучше, чем в других странах. Несмотря на целый ряд попыток представителей левых русских политических партий внести раздор в среду русской эмиграции в Сербии, они не увенчались успехом, и русская эмиграция в Сербии и поныне представляет собой весьма сплоченную политическую среду.
3. Константинополь. В Турции, и в частности в Константинополе, сосредоточились главным образом русские эмигранты, эвакуированные из Новороссийска весной 1920 года и из Крыма в ноябре того же года и состоящие также главным образом из лиц служилого состава. Настроение русской эмиграции в Турции, в общем, сходно с настроением в Сербии с той лишь разницей, что в Константинополе имеется значительное число лиц русского торгового класса, самых разнообразных национальностей, не имеющих определенной политической окраски, но ради своих торговых интересов готовых на всякие компромиссы с кем угодно, не исключая и большевиков; последние также довольно сильно представлены в Константинополе. Во всяком случае, политическое настроение русской эмиграции в Константинополе вообще может быть охарактеризовано как националистическое, чуждое всяких уклонений в сторону социалистических партий и кадет Милюковского толка. Политическим центром русской эмиграции в Константинополе является образовавшийся в мае сего года Русский Совет86 с генералом бароном Врангелем во главе. Образованный как из лиц бывшего Крымского правительства, так и из представителей земств, городов и прочих общественных кругов, и всецело поддерживающий генерала барона Врангеля и интересы эвакуированной из Крыма русской армии Русский Совет, объединяющий всю русскую эмиграцию в Турции, в своей деятельности, безусловно, держится русского национального начала. Кроме Русского Совета, в Константинополе имеются центральные органы Всероссийского земского союза и Всероссийского союза городов, преследующие преимущественно гуманитарные цели, но в своих политических выступлениях также всецело поддерживающие Русский Совет.
С расселением эвакуированной из Крыма русской армии в других балканских государствах, Константинополь, вероятно, потеряет свое значение как один из крупных центров русской эмиграции, но зато усилится значение в этом смысле Белграда.
4. Берлин. Политическая рознь русской эмиграции в Берлине весьма велика, так как в там довольно ярко представлены как правые политические партии, так и левые. Сходятся все лишь в одном, что Германия сыграет крупную роль в деле избавления России от большевизма и ее экономического восстановления. Русские монархические группы в Германии, находящиеся в тесной связи с германскими монархическими партиями, были инициаторами монархического съезда в Рейхенгал-ле с 16 по 24 мая с.г. ст. ст.
Кроме правого - монархического - течения политической мысли русской эмиграции в Германии, довольно сильно представлено также умеренное политическое течение, близкое к программе кадетской партии дореволюционной России, но совершенно отмежевавшееся в последнее время от кадет Милю-ковского толка, ищущих сближения с социалистическими партиями. Это умеренно политическое направление, не чуждающееся сближения с более правым течением, имеет свой, весьма распространенный и удачно редактируемый орган печати «Руль». В свою очередь кадеты Милюковского толка, опасаясь большого влияния этого органа печати, приобрели в последнее время Берлинскую русскую газету «Голос России», не имевшую до сего времени определенной политической окраски и отклонявшуюся в зависимости от русской политической обстановки то вправо, то влево, сделали ее лейб-органом кадет новой тактики Милюкова. Исход борьбы этих двух политических течений и их органов печати пока еще не определился.
Наконец, в Берлине довольно сильно представлены также сторонники левых политических - социалистических партий, которые, впрочем, не живут самостоятельной жизнью, а находятся в полной зависимости от русского социалистического центра - Праги.
Все эти разнообразные русские политические группировки в Германии имеют свои комитеты, деятельность которых, однако, мало заметна за пределами Германии.
Конечно, в Германии, вследствие ее крупных торговых и промышленных связей с дореволюционной Россией, находится еще и весьма значительное число русских эмигрантов торгового и промышленного класса, стоящих ныне совершенно в стороне от русской политики, но поддерживающих тесную связь с германскими торговыми и промышленными кругами с целью восстановления по свержении или падении большевиков в России своих дел при содействии германских друзей. Этот элемент, естественно, будет в будущем проводником германского засилья в России.
В общем, русская эмиграция в Германии весьма разнообразна по своему политическому настроению и совершенно не объединена ничем общим.
5. Прага. Юная столица Чехословакии сделалась в полном смысле слова главной квартирой русских эмигрантов-социалистов; прочие русские политические течения представлены в Праге и вообще в Чехословакии весьма слабо. В Праге находится заграничный центральный комитет партии социал-революционеров, там же издается их орган печати «Воля России», там же находятся главари партии. Вождям этой партии удалось установить весьма хорошие отношения с руководителями политики Чехословакии, а также собрать, вероятно, не без помощи последних довольно значительные денежные суммы. Потеряв власть в России благодаря большевикам, партия социал-революционеров тотчас же после большевистского переворота выработала программу своей дальнейшей деятельности, в основу которой был положен следующий тезис: всеми мерами препятствовать установлению в России несоциалистической власти. И для достижения этой цели она готова даже работать на пользу большевикам. Развив полную энергию на этом направлении сначала в Сибири в период правления адмирала Колчака и достигнув там своей цели, партия социал-революционеров перенесла затем свою работу на юг России, чтобы всеми силами противодействовать национальному русскому движению юга России против большевиков. К этому времени и относится создание русского социал-революционного центра в Праге. После поражения генерала Деникина и барона Врангеля пражские социал-революционеры направили свою деятельность против всех русских заграничных политических организаций, которые не исповедали их социалистического катехизиса, стремясь устранить ко времени падения большевиков всех своих политических конкурентов на прием власти в освобожденной от большевиков России. В настоящее время деятельность этого центра партии социал-революционеров направлена главным образом к дискредитированию других русских политических группировок за границей и к сбору своих сил на случай падения большевиков.
6. Варшава. Насколько Прага является центром русских заграничных социал-революционеров, настолько Варшава с весны 1920 г. сделалась главной квартирой отколовшегося от социалистов Савинкова и его сторонников. Личные дружеские отношения Савинкова с главой Польши Пилсудским создали для первого чрезвычайно благоприятную обстановку для развития своей деятельности в Варшаве, целью которой, конечно, также является захват власти в России после падения большевиков. При помощи широкой материальной и моральной поддержки со стороны Польского Правительства и путем ряда национальных уступок последнему в виде признания Рижского мирного договора, Савинкову с созданным им Русским Эвакуационным Комите-том87 (называвшимся до Рижского договора Русским Политическим Комитетом) удалось обеспечить себе в Варшаве прочную базу для работы в Сов. России, направленной ныне главным образом на организацию восстаний среди сельского населения и пропаганду в рядах Красной армии. Савинков не уклоняется от сотрудничества с другими русскими политическими группами, но лишь при условии подчинения последних его авторитету и его политическим лозунгам, которые, однако, весьма неопределенны. Интернированные в Польше русские воинские части, находящиеся в значительной материальной зависимости от Савинкова, преданы ему, однако, лишь отчасти и в случае прекращения этой материальной помощи, вероятно, отстранятся от него. В Варшаве же Савинковым издавалась и собственная газета «Свобода».
Кроме группы Савинкова, в Варшаве имеется свой Украинский центр самостийного характера, который находится в хороших отношениях с Савинковым. Других более значительных русских политических группировок в Варшаве нет.
Русская эмиграция в других крупных центрах Западной Европы не играет никакой политической роли в русских вопросах и сгруппирована исключительно лишь в виде профессиональных и гуманитарных обществ без политической окраски. Некоторое исключение в этом отношении до последнего времени представляла лишь Вена, где имелся довольно крупный центр украинской самостийности, но ныне по истощении всех имевшихся в его распоряжении денежных средств он прекратил свое существование ».
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Русская военная эмиграция 20-40-х годов. Документы и материалы. - Т. 1. Кн. 1. Исход [Текст]. - М. : Гея, 1998; Т. 1. Кн. 2. На чужбине [Текст]. - М. : Гея, 1998; Т. 2. Несбывшиеся надежды [Текст]. - М. : Триада-Х, 2001; Т. 3. Возвращение [Текст]. - М. : Триада-ф, 2002. Более подробно о проекте см.: Марков-чин, В.В. Русская военная эмиграция 1920-х - 1940-х годов: из истории научно-издательского проекта [Текст] / В.В. Марковчин // Новый исторический вестник. - 2015. - № 4(46). - С. 149-160.
2. Центральный архив ФСБ России. - Ф. 1. - Оп. 6. - Д. 249. - С. 33-34 об.
ПЕЧЕНКИН Александр Алексеевич,
доктор исторических наук, заведующий кафедрой отечественной истории,
Вятский государственный университет
АННОТАЦИЯ. На основе комплекса военных мемуаров и исторической литературы исследуется деятельность командующих войсками фронтов в 1941 г.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Великая Отечественная война, фронт, полководцы.
PECHENKIN A.A.,
Dr. Hist. Sci., Head of the Department of Russian History,
Vyatka State University
RED ARMY COMMANDERS IN 1941
ABSTRACT. The research, based on a collection of military memoirs and historical literature, investigates the activities of the Front commanders in 1941.
KEY WORDS: Great Patriotic War, front, commanders.
К числу полководцев Великой Отечественной войны можно отнести тех военачальников, которые успешно руководили войсками фронта. Конечно, достаточное число одаренных и опытных военачальников, способных возглавить крупные объединения, появилось не сразу. В первый год войны постоянно ощущалась нехватка генералов, пригодных на должности командующих фронтами. Сказывались последствия репрессий 1937-1939 гг., после которых уцелели только 2 из 5 маршалов, 1 из 5 командармов 1 ранга, погибли все 10 командармов 2 ранга.
Устранив значительное число полководцев времен Гражданской войны, И.В. Сталин сделал ставку на более молодое поколение, полагая, что они быстро заменят репрессированных. «Вот из этих людей смелее выдвигайте, все перекроят, камня на камне не оставят. Выдвигайте людей смелее снизу» [1, с. 83], - заявлял он. По его мнению, при выдвижении на высшие военные должности надо учитывать в первую очередь не военные знания и полководческий талант, а безоговорочную верность вождю. «Мой совет вам, - говорил И.В. Сталин военачальникам, - не растрачивайте добытого авторитета перед народом, иначе он вас сметет и на ваше место выдвинет своих новых маршалов, своих новых командиров. Они будут, может быть, менее способными, чем вы, на первое время, но они будут связаны с народом и смогут принести гораздо больше пользы, нежели вы с вашими талантами» [2, с. 72-76]. То есть И.В. Сталин готов был выдвинуть на высшие командные должности людей менее способных, зато преданных ему. Отбор военачальников по принципу личной преданности привел к уничтожению многих независимо мыслящих военных и замене их послушными, но не всегда талантливыми командирами.
Далеко не все сталинские выдвиженцы, получившие высшие звания и должности, оправдали доверие вождя. В военной верхушке преобладали
те, которые в годы Гражданской войны служили в Первой конной армии. Маршалами Советского Союза в 1941 г. были: К.Е. Ворошилов, С.М. Буденный,
С.К. Тимошенко, Г.И. Кулик, Б.М. Шапошников, генералами армии стали: Г.К. Жуков, Д.Г. Павлов, К.А. Мерецков, И.В. Тюленев, И.Р. Апанасенко, а звание генерал-полковников к началу Великой Отечественной войны имели: О.И. Городовиков.
Ф.И. Кузнецов, М.П. Кирпонос, Я.Т. Черевиченко. Четверо из пяти маршалов, трое из пяти генералов армии и двое из четырех генерал-полковников, то есть 64% высших руководящих кадров Красной армии, были конармейцами. И.В. Сталин считал, что именно они в будущей войне станут лучшими полководцами, но это мнение оказалось ошибочным.
Война стала суровой проверкой умения управлять войсками и не каждый военачальник, назначенный командующим фронтом, выдержал это испытание и получил право называться полководцем. Фронтами в период Великой Отечественной войны командовали не те люди, которые в мирное время были предназначены на эти посты, и не те, которые в силу обстоятельств оказались во главе фронтов в июне 1941 г. Война, как суровый экзаменатор, провела свой отбор, вытеснив с командных постов случайных людей, заменив их в конечном итоге профессионалами высокого уровня.
В июне 1941 г. было создано 5 фронтов: Северный, Северо-Западный, Западный, Юго-Западный, Южный, которыми командовали генералы: М.М. Попов,
Ф.И. Кузнецов, Д.Г. Павлов, М.П. Кирпонос, И.В. Тюленев. Ни один из них к октябрю 1941 г. уже не командовал фронтом.
Через 9 дней после начала войны, 30 июня 1941 г., И.В. Сталин снял с должности двух командующих фронтами. Генерал-полковник Федор Исидорович Кузнецов неумело командовал войсками Юго-Западного фронта и был переведен на тыловые должности, а Герой Советского Союза, генерал армии Дмитрий Григорьевич Павлов был признан
Информация для связи с автором: alexv.54@mail.ru
виновным в поражении войск Западного фронта и 22 июля расстрелян. Генерал армии Иван Владимирович Тюленев, командуя Южным фронтом, показал личную храбрость, сам водил бойцов в атаку, был ранен в ногу, за что получил выговор от И.В. Сталина. С 1942 по 1945 гг. И.В. Тюленев командовал войсками Закавказского фронта.
Самым молодым командующим фронтом в начале войны был генерал-лейтенант Маркиан Михайлович Попов. С июня по сентябрь 1941 года М.М. Попов, командуя войсками Северного и Ленинградского фронтов, сделал все, что мог, чтобы остановить наступление фашистов на Ленинград. В начале сентября Сталин все-таки решил сменить молодого генерала на героя Гражданской войны Климента Ефремовича Ворошилова, но уже через неделю, поняв, что старый маршал неспособен командовать фронтом, отозвал его на тыловую работу. Что касается М.М. Попова, то он хорошо командовал армией в ходе Сталинградской битвы, а во время Курского сражения он снова поднялся до уровня командующего Брянским фронтом. Войну М.М. Попов закончил в должности начальника штаба Ленинградского фронта.
Генерал-полковник, Герой Советского Союза Михаил Петрович Кирпонос до марта 1940 г. командовал стрелковой дивизией, проявил героизм в войне с Финляндией, после чего совершил головокружительную карьеру. Всего за один год он командовал дивизией, корпусом, армией, Ленинградским и Киевским военными округами. Стремительный взлет не позволил храброму генералу освоить резко возросший круг обязанностей. Три месяца М.П. Кирпонос командовал Юго-Западным фронтом, который 20 сентября был окружен. Сотни тысяч бойцов попали в плен, а командующий фронтом погиб, сражаясь, как солдат.
Нарком обороны СССР, маршал Семен Константинович Тимошенко в начале июля 1941 г. вступил в командование Западным фронтом вместо Д.Г. Павлова. Фронт пришлось создавать заново после того, как значительная часть войск попала в окружение западнее Минска. Маршал создал работоспособный штаб и управление фронта, умело руководил войсками в ходе Смоленского сражения. В сентябре его назначили командующим ЮгоЗападным фронтом вместо погибшего генерала М.П. Кирпоноса. Летом 1942 г. во время Харьковской операции войска С.К. Тимошенко потерпели поражение. В 1943-1945 гг. И.В. Сталин посылал С.К. Тимошенко на фронты в качестве представителя Ставки Верховного Главнокомандования.
В первые месяцы Великой Отечественной войны создание новых и упразднение существующих фронтов происходило иногда спонтанно. Так, Фронт Можайской линии обороны, Фронт резервных армий, Северный и Центральный фронты просуществовали всего несколько недель. И.В. Сталин в 1941 г. часто менял командующих фронтами, порой даже не позволив им проявить себя. Войсками Западного фронта последовательно командовали 7 человек: Д.Г. Павлов (9 дней), А.И. Еременко (2 дня), С.К. Тимошенко (18 дней), вновь А.И. Еременко (11 дней), вновь С.К. Тимошенко (1,5 месяца), И.С. Конев (1 месяц) и наконец Г.К. Жуков (с 11 октября 1941 г. по 26 августа 1942 г). На Ленинградском фронте сменилось 5 командующих: М.М. Попов (2 недели), К.Е. Ворошилов (менее недели), Г.К. Жуков (4 недели), И.И. Федюнинский (2 недели) и М.С. Хозин (с 27 октября 1941 г. по
9 июня 1942 г.). На Южном фронте сменилось 4 командующих: И.В. Тюленев, Д.И. Рябышев,
Я.Т. Черевиченко, Р.Я. Малиновский. Такую кадровую политику нельзя признать обоснованной. Частая смена руководства не способствовала нормальной работе штабов и полевых управлений фронтов.
В 1941 г. на должности командующих фронтами назначались не всегда компетентные люди, так как заранее подобранных и хорошо обученных командующих фронтами просто не было. Во главе фронтов ставились люди, не имевшие необходимой подготовки и не обладавшие полководческими талантами. Многие из них командовали фронтом всего несколько дней или недель, а потом приходилось искать им замену. В 1941 г. И.В. Сталин направил в армию несколько генералов из войск НКВД. Двое из них (генерал-лейтенанты П.А. Артемьев и И.А. Богданов) 12-16 дней занимали должность командующего фронтом, но не справились с обязанностями и были переведены на другие должности. «Чему нас учит полученный опыт? - резюмировал в августе 1944 г. заместитель Верховного Главнокомандующего маршал Г.К. Жуков. - Во-первых, мы не имели заранее подобранных и хорошо обученных командующих фронтами, армиями, корпусами и дивизиями. Во главе фронтов встали люди, которые проваливали одно дело за другим (Павлов, Кузнецов, Попов, Буденный, Черевиченко, Тюленев, Рябышев, Тимошенко и др.). ... Иначе и не могло быть, так как подготовленных еще в мирное время кандидатов на фронты, армии и соединения не было. Людей знали плохо. Наркомат обороны в мирное время не только не готовил кандидатов, но даже не готовил командующих - командовать фронтами и армиями. ... Короче говоря, каждому из нас известны последствия командования этих людей и что пережила наша Родина, вверив свою судьбу в руки таких командующих и командиров» [3, с. 137-138].
Всего с июня по декабрь 1941 г. было 28 командующих фронтами, 9 из которых находились в этой должности от одной недели до полутора месяцев, т.е. 32% лишились права руководить фронтом, даже не успев по-настоящему освоиться с этими очень сложными обязанностями. Каждый четвертый генерал, возглавивший фронт в 1941 г., получил возможность командовать им от трех до восьми месяцев. И лишь 12 человек командовали фронтом более года.
Что это были за люди, которым в 1941 г. представилась возможность стать полководцами, и смогли ли они реализовать эту возможность? Кем они были до назначения на должность командующего фронтом? Около половины из них ранее непродолжительное время командовали армиями и войсками военных округов, двое служили в войсках НКВД, пятеро занимали руководящие должности в центральном аппарате Наркомата обороны, остальные командовали дивизией и корпусом. Три четверти командующих фронтами были участниками Первой мировой войны, причем восемь человек дослужились при царе до обер-офицеров. В Гражданской войне участвовали все 28 человек, в том числе двое командовали армиями, по четыре человека командовали дивизиями, бригадами, полками и шестеро были штабными работниками и комиссарами полкового и дивизионного звеньев. Кроме того, каждый четвертый командующий фронтом 1941 г. воевал в Гражданскую войну в качестве красноармейца или командира подразделения. Важная особенность: 25% командующих фронтами 1941 г. в годы Гражданской войны служили в Первой конной армии. Таким был боевой опыт тех, кому довелось в 1941 г. возглавить фронты.
Некоторые полководцы 1941 г. получили опыт руководства крупными воинскими соединениями в локальных войнах и военных конфликтах 1930-х гг.: гражданская война в Испании 1936-1939 гг., бои в районе озера Хасан, на реке Халхин-Гол, советско-финляндская война. За боевые отличия в период 1936-1940 гг. 6 человек (Д.Г. Павлов, Г.К. Жуков, И.И. Федюнинский, С.К. Тимошенко, К.А. Мерецков, М.П. Кирпонос), то есть 21% всех командующих фронтами 1941 г., были удостоены высшей степени отличия - звания Героя Советского Союза.
Важным показателем профессиональной квалификации полководцев являлось военное образование. 71% полководцев окончили военные академии, остальные прошли переподготовку на курсах усовершенствования комсостава. Большинство полководцев 1941 г. находилось в возрасте 39-49 лет. Таким образом, командующие фронтами 1941 г. по таким показателям, как возраст, стаж военной службы, уровень образования, вполне соответствовали занимаемой должности. Однако к числу серьезных недостатков следует отнести отсутствие у большинства из них опыта командования войсковыми объединениями в условиях современной войны. Поэтому лишь малая часть командующих фронтами 1941 г. стала настоящими полководцами.
Крупные военные неудачи заставили И.В. Сталина постепенно изменить принципы выдвижения на высшие командные посты, отказаться от использования конармейцев: К.Е. Ворошилова, С.М. Буденного, Г.И. Кулика, И.Р. Апанасенко, Я.Т. Чере-виченко, Д.И. Рябышева и других. Эти уже не соответствовавшие требованиям современной войны люди были оттеснены на вторые роли, а во главе фронтов встали другие генералы, имевшие опыт руководства войсками в новых условиях. В сентябре-декабре 1941 г. в число лучших командующих фронтами вошли хорошо подготовленные полководцы - Г.К. Жуков, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, К.А. Мерецков, А.И. Еременко и некоторые другие.
Для заместителя наркома обороны Героя Советского Союза генерала армии Кирилла Афанасьевича Мерецкова начало войны совпало с другой трагедией. 24 июня он был арестован по обвинению в военном заговоре. Большинство «военных заговорщиков» было расстреляно, а Мерецков стал единственным исключением. Чекисты два месяца его допрашивали на Лубянке, подводили под расстрел. В это время некомплект командиров высокого ранга был слишком велик. Число фронтов и армий возросло, а людей, способных квалифицированно командовать этими объединениями, не было. В сентябре 1941 г. И.В. Сталин вспомнил о К.А. Мерецкове и прямо из тюрьмы вызвал его в Кремль. Заботливо поинтересовавшись здоровьем заключенного, Верховный Главнокомандующий назначил его представителем Ставки на Северо-Западном фронте. К.А. Мерецков хорошо знал этот театр военных действий, так как он воевал против финнов в 1939-1940 гг. Осенью он командовал 7-й и 4-й армиями, а в декабре 1941 года возглавил вновь образованный Волховский фронт. Всю войну К.А. Мерецков воевал на Волховском и Карельском фронтах, хорошо знал и умело использовал особенности лесисто-болотистого региона, добивался успеха. И.В. Сталин ценил знания и опыт, называл его «хитрым ярославцем». В августе 1945 г. маршал К.А. Мерецков командовал Дальневосточным фронтом в войне с Японией.
К числу наиболее талантливых полководцев Великой Отечественной войны следует отнести Ивана Степановича Конева. Много лет он командовал стрелковым полком, дивизией, корпусом, армией и военным округом. К началу Великой Отечественной войны И.С. Конев был вполне сложившимся военачальником, имевшим хорошее военное образование, широкий кругозор, большой командный опыт. В июне-августе 1941 г., командуя 19-й армией, Конев отличился в Смоленском сражении, в сентябре 1941 г. был назначен командующим войсками Западного фронта, защищавшего Москву. В начале октября немцы окружили в районе Вязьмы значительную часть войск Западного и Резервного фронтов. Дорога на Москву была практически открыта. И.С. Коневу грозила судьба генерала Д.Г. Павлова, расстрелянного три месяца назад, но за него вступился Г.К. Жуков, возглавивший Западный фронт, заявивший Сталину, что Конев - не Павлов, он нам еще пригодится. Во главе Калининского фронта И.С. Конев отличился в контрнаступлении под Москвой. Талант выдающегося полководца И.С. Конев проявил, командуя Степным, 2-м и 1-м Украинскими фронтами при освобождении Украины, Польши, Германии и Чехословакии.
Несколько иным был жизненный путь Андрея Ивановича Еременко. Он был старше И.С. Конева на 5 лет, солдатом прошел всю Первую мировую войну, во время Гражданской войны был командиром взвода. В мирное время командовал полком, дивизией, корпусом и армией. В июле 1941 г. участвовал в Смоленском сражении. В августе его принял И.В. Сталин, искавший кандидата, способного возглавить вновь созданный Брянский фронт. А.И. Еременко твердо заявил, что в ближайшие дни, безусловно, разгромит Гудериана. Выполнить свое обещание о разгроме танковой армии Гудериа-на А.И. Еременко не смог. 13 октября он был ранен и эвакуирован в московский госпиталь. Присущие А.И. Еременко смелость, стойкость и упорство в достижении цели ярко проявились в обороне Сталинграда и в успешных наступательных операциях 1943-1945 гг.
Интересной была биография Родиона Яковлевича Малиновского. Солдат русской армии, он в годы Первой мировой войны попал в составе экспедиционного корпуса во Францию и там сражался с немцами, был награжден русскими и французскими орденами. В Красной армии за 20 лет он прошел путь от начальника пулеметной команды до командира стрелкового корпуса. В 1938 г. полковник Р.Я. Малиновский вновь воевал на чужой земле, в Испании. За отличия в боях с франкистами ему присвоили звание комбрига и наградили орденами Ленина и Красного Знамени. В начале Великой Отечественной войны Р.Я. Малиновский командовал стрелковым корпусом и общевойсковой армией. Талант 43-летнего генерала был замечен, с декабря 1941 г. по июль 1942 г. он командовал войсками Южного фронта. После крупных неудач фронт расформировали, но Р.Я. Малиновский, командуя 2-й гвардейской армией, отличился в Сталинградской битве. С 1943 г. по 1945 г. Р.Я. Малиновский блестяще командовал 3-м и 2-м Украинскими фронтами, закончив войну в Манчжурии в качестве командующего Забайкальским фронтом.
Самым знаменитым полководцем Великой Отечественной войны был Георгий Константинович Жуков. В начале войны он возглавлял Генштаб, но в конце июля из-за разногласий с И.В. Сталиным был освобожден от этой должности и назначен командующим Резервным фронтом. Проведя операцию по ликвидации Ельнинского выступа, Г.К. Жуков доказал, что наши войска могут не только обороняться, но и наступать. Затем 4 недели Г.К. Жуков командовал Ленинградским фронтом, отбил попытки противника взять город с ходу. В начале октября после разгрома в районе Вязьмы значительной части войск Западного и Резервного фронтов Г.К. Жуков был отозван из Ленинграда и возглавил оборону Москвы. В труднейших условиях, умело маневрируя немногочисленными резервами, Георгий Константинович сумел остановить врага на подступах к столице. Измотав противника в оборонительных боях, Г.К. Жуков подготовил грандиозное контрнаступление. Здесь сыграли свою роль его выдающиеся оперативные способности, непреклонная воля, твердость духа. В 19421945 гг. он был заместителем Верховного Главнокомандующего. И.В. Сталин неоднократно посылал Г.К. Жукова на фронты в качестве представителя Ставки Верховного Главнокомандования.
Полководцы 1941 г. имели твердый и решительный характер, располагали обширными военными знаниями и боевым опытом. Все эти генералы получили достаточное военное образование, много занимались самообразованием, настойчиво овладевали теорией и практикой военного дела, пройдя все ступени командной службы (полк, дивизия, корпус, армия), стали талантливыми военачальниками, умеющими правильно оценивать оперативностратегическую обстановку, находить наиболее целесообразное и неожиданное для врага решение, совместно со своим штабом разрабатывать наиболее эффективный план проведения операции, а затем тщательно готовить войска для выполнения принятого решения.
Критерием успешной полководческой деятельности в годы войны являлось искусство выполнять задачи стратегических и фронтовых операций, нанося противнику серьезные поражения. Наши командующие фронтами в целом с этим успешно справлялись. В сражениях Великой Отечественной войны выросла и окрепла целая плеяда командующих фронтами, которые делом доказали свое право именоваться полководцами. Война как суровый экзаменатор провела объективный отбор командных кадров, вытеснив с ключевых постов случайных людей, заменив их профессионалами высокого уровня. Полководцы 1941 г. - Г.К. Жуков, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, К.А. Мерецков - в ходе Великой Отечественной войны стали маршалами Советского Союза и кавалерами высшего военного ордена «Победа».
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Источник. - 1994. - № 3.
2. «Правильная политика правительства решает успех армии». Кто достоин быть маршалом (Речь И.В. Сталина на специальном военном совещании в 1937 г.) / публ. А.А. Печенкина // Источник. - 2002. - № 3.
3. Источник. - 1996. - № 2.
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, философии и русского языка,
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I
АННОТАЦИЯ. На основе румынских и советских архивных материалов анализируются бои частей Красной армии против 1-й румынской пехотной дивизии южнее Харькова, рассматриваются особенности взаимодействия немецких и румынских подразделений.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 1 -я румынская пехотная дивизия, 6-я армия Юго-Западного фронта, 57-я армия Южного фронта, город Лозовая, февраль 1942 г.
Cand. Hist. Sci., Docent of the Department of History,
Philosophy and Russian Language,
Voronezh State Agricultural University named after Emperor Peter I
ABSTRACT. The article presents a study based on Romanian and Soviet archival materials. It analyzes the battles of the Red Army against the 1st Romanian infantry division, discusses the features of interaction of German and Romanian military units.
KEY WORDS: 1st Romanian infantry division, 6th army of the Southwestern front, 57th army of the Southern front, February 1942.
В современной исследовательской литературе нет информации о боях в феврале 1942 г. на бар-венковском выступе в Харьковской области. Детально анализируются события январской Барвенковско-Лозовской наступательной операции войск Красной армии, а о последующих событиях либо не говорится вообще, либо в лучшем случае отмечается: «...с февраля по май 1942 г. на барвенков-ском выступе шли бои местного значения, но и они отличались крайней напряженностью» [1, с. 32].
Причин такого «равнодушия» исследователей видится несколько. Действительно, февральские бои 1942 г. в этом районе носили затяжной, позиционный характер. Барвенковско-Лозовская операция измотала силы противоборствующих сторон. Кроме того, на стороне немецко-фашистских войск здесь воевала 1-я румынская пехотная дивизия. В конце Великой Отечественной войны Румыния стала союзником СССР. Потому советским историкам в послевоенный период было сложно поднимать вопросы, связанные с её ролью в качестве сателлита гитлеровской Германии. Если же приходилось это делать, в ход шли штампы следующего порядка: румыны воевать за немецкие интересы не хотели, шли в атаку чуть ли не из-под палки, сражались кое-как, только и думали о том, как бы поскорее сдаться в плен [2]. Цель данной статьи - на основе румынских и советских архивных материалов проанализировать февральские боевые действия советских войск против 1-й румынской пд, происходившие в 1942 г., изучить особенности взаимодействия румынских и немецких подразделений.
Против 1-й румынской пд в феврале 1942 г. сражались подразделения 38-й кавалерийской (командир полковник С.С. Селихов) и 270-й стрелковой (командир генерал-майор З.Ю. Кутлин) дивизий 6-й армии (командующий генерал-лейтенант А.М. Городнянский) Юго-Западного фронта, а также части 341-й (командир полковник А.И. Щагин) и 351-й (командир полковник Н.У. Гурский)стрел-ковых дивизий 57-й армии (командующий генерал-лейтенант Д.И. Рябышев) Южного фронта [3, с. 127-128]. 18 января 1942 г. фронты Южный (командующий генерал-лейтенант Р.Я. Малиновский) и Юго-Западный (командующий генерал-лейтенант Ф.Я. Костенко) начали наступательную Барвенковско-Лозовскую операцию. Советские войска прорвали оборону противника между Балаклеей и Артёмовском в направлении на Запорожье и продвинулись на 90-100 км на запад и юго-запад. Цель операции - выйти в тыл донбасско-таганрогской группировке фашистов, в последующем блокировать её у побережья Азовского моря и уничтожить [4, с. 339-343]. Операция продолжалась до 31 января 1942 г. В результате врагу был нанесён значительный урон, но реализовать главную задачу по освобождению Донбасса из-за упорного сопротивления фашистов и нехватки сил и боевой техники не
Информация для связи с автором: chal.04@mail.ru
получилось [5, с. 37]. Немецкое командование тоже не имело в южном секторе фронта крупных резервов, и советское наступление отражалось в основном за счет перегруппировок внутри группы армий «Юг» [6, с. 227].
6 января 1942 г. 1-я румынская пд решением маршала Й. Антонеску передавалась в распоряжение группы армий «Юг» в качестве резерва с расположением западнее Днепропетровска. Её снабжение продовольствием, горючим, боеприпасами должно было производиться немецкими инстанциями [7, л. 12]. Уже 11 января 1942 г. она получила приказ группы армий «Юг» о скорейшей передислокации из района Кривого Рога, где около двух месяцев находилась «в качестве оккупационных войск в охранном округе при военноуполномо-ченном на Украине», в район Запорожье - Днепропетровск. Ежедневно до 18.00 дивизия по военному телеграфу должна была связываться с оперативным отделом группы армий «Юг» и сообщать, «какого района достигли, какие произошли изменения или особые происшествия» [7, л. 4, 21]. 400
километровый переход совершался в пешем порядке при морозах в минус 25-30 градусов. В отчёте о боевых действиях этой дивизии сообщалось: «Офицеры и солдаты были истощены в результате маршей в зимние бури по дорогам, засыпанным снегом. Без отдыха (деревни разрушены, нет квартир)» [8, л. 36]. После этого дивизия без оставшейся в Мариуполе артиллерии (которая была передана 1-й немецкой танковой армии) [7, л. 12] заняла позиции в районе Павлограда между остатками немецких 100-й и 298-й пд и была подчинена 11-му ак.
28 января 1942 г. 1-я дивизия находилась на оборонительной линии между Коховкой и Самой-ловкой, в 15-35 км к югу от города Лозовая. Командование докладывало в штаб корпуса: «Начиная с 28 января, днём и ночью участвовали в боях в большие морозы, бури, без отдыха и в таком районе, где отсутствовали населённые пункты, что вынуждало дивизию беспрерывно находиться на позиции, в открытом поле, без смены. Не было поддержки со стороны артиллерии. Полностью отсутствовали транспортные средства для подвоза вооружения, боеприпасов, продовольствия по дорогам, засыпанным снегом, и полям, где глубина снега была больше метра» [8, л. 36, 37].
При этом начальник Германской военной миссии генерал-майор А. Хауфе 11 февраля 1942 г. заверял румынский Генштаб в том, что 1-я румынская дивизия обеспечена всем необходимым: «Потребность дивизии в зимнем снаряжении покрыта полностью, согласно предъявленной заявке. В эвакуации румынских и немецких раненых не делается никакой разницы. Санитарное имущество, затребованное старшим румынским врачом, армия всегда доставляет ему. Заготовка фуража в равной степени для румынских и немецких соединений является постоянной заботой армии. Подвоз боеприпасов производится большей частью при помощи немецких средств. Королевский румынский генштаб может быть уверен в том, что в целях сохранения боеспособности союзных румынских войск группа армий «Юг» в любое время и в возможных пределах сделает всё для удовлетворения справедливых пожеланий» [7, л. 62-65]. Как показали дальнейшие события, многие обещания немцев остались только на бумаге.
Стоит отметить, что трудности, связанные с погодными условиями в феврале 1942 г., испытывали не только румынские, но и советские подразделения. В отчёте о боевых действиях 341-й сд, переброшенной на данный участок фронта для участия в Барвенковско-Лозовской операции, отмечено: «Пурга, начавшаяся 21 января, продолжалась с небольшими перерывами до 7 февраля. В результате образовались большие сугробы, особенно в населённых пунктах, и меньше - на полях. Дороги стали непроходимы для автотранспорта и труднопроходимы для гужевого транспорта» [9, л. 9]. Разведчики 341-й сд определили, что к 2 февраля в район Николаевка, Постояновка, Криштоповка подошёл 85-й пп 1-й румынской дивизии. В ночь со 2 на 3 февраля 341-я сд произвела выдвижение на рубеж: Васюкова, Ниж. Украинский, Варваровка, не встречая сопротивления противника, за исключением небольших отрядов румын в районе Васюкова, Самойловка.
1143-й сп (командир майор Замышевский) 341-й сд получил задачу овладеть селом Криштоповка, где стоял в обороне один батальон 85-го румынского пп. В 2 часа ночи 4 февраля 1-й сб полка перешёл в наступление. При этом красноармейская группа истребителей в 10 человек заранее скрытно пробралась в село, непосредственно в расположение врага, и уничтожила миномёт и 20 румынских солдат. Противник в панике стал отступать. И утром батальон полностью занял Криштоповку. Опомнившись, собрав силы, в 15.30 до двух батальонов румын перешли в контратаку со стороны Николаевка на Криштоповку. Контратака была отбита. При этом советские бойцы взяли в плен 14 солдат 85-го пп и захватили трофеи: винтовок - 100 штук, ручных пулемётов - 5, пистолетов - 10, патронов -7000, автомашин - 3, миномётов - 2, станковых пулемётов - 1, мин - 150, подвод с военным имуществом - 2, рогатого скота - 10 голов [10, л. 22].
С 4 февраля 341-я сд перешла к обороне на рубеж Уплатное, Криштоповка, Осадчий, Александ-рополь, Варваровка, Дягово. 270-я сд заняла район Лозовая, а 351-я стрелковая дивизия правофланговым стрелковым полком дислоцировалась в Баши-лово, Знаменовка. Таким образом, фланги 341-й сд оказались открытыми. Потому фактический рубеж обороны пришлось выдвинуть вперёд. Он оказался растянутым, значительно шире позиции, указанной штабом армии. «Отвод войск на указанный рубеж командованием дивизии считался нецелесообразным, так как показал бы противнику непрочность нашего положения», - утверждалось в докладе командира дивизии [9, л. 10].
Утром 7 февраля 1-я румынская пд перешла в наступление из районов населённых пунктов Нико-лаевка, Благодатное, Новоникольский, Александ-ровка при поддержке с воздуха немецкой авиацией. Немцы подняли в воздух три самолёта вместо обещанных 70. Румыны рассчитывали окружить село Криштоповка силами 85, 93 и 5-го егерского пп. Один из батальонов противника атаковал село Анд-реевка в 4 км юго-восточней Криштоповка, но встреченный взводом разведчиков и взводом сапёров отступил и присоединился к атакующим Криш-топовку.
Как только стало известно о крупном наступлении румын на Криштоповку, командир 341-й сд отдал приказ командиру 1141-го сп подполковнику Петрову ударом двух батальонов в направлении высоты 143,0 совместно с 1143-м сп отразить атаку и уничтожить противника. К 17.30 1141-й сп, выбив артиллерийским огнём противника с высоты 190,6, подошёл к южной окраине села Криштопов-ка, атакуя румын с тыла. Совместным ударом 1141го и 1143-го стрелковых полков противник был отброшен от Криштоповки. Вечером румыны заняли Самойловку, которую из-за неудачи под Кришто-повкой вскоре, 8 февраля, оставили без боя. О боях 7 февраля 1942 г. под Криштоповкой командир 1-й румынской пд генерал Бырзотеску писал: «Наступление на село Криштоповка проводилось при морозе в 30 градусов. Снег был глубоким, до одного метра. Мороз и буря были настолько сильные, что люди замерзали и падали без памяти. Автоматическое оружие не действовало. Раненые, которые падали в снег, немедленно покрывались снегом и замерзали. Одиночки заблудились, их считали пропавшими без вести» [8, л. 33].
Сведения о потерях противоборствующих сторон в эти дни разнятся. Румыны в своих отчетах в десятки раз преувеличили фактически понесенные советскими частями потери. По румынским данным, 1143-й и 1139-й сп понесли 7 февраля потери в Криштоповке (около 300-400 убитых) [8, л. 25]. Согласно же отчёту о боевых действиях 341-й сд, «наши потери: 12 человек убитыми, 60 человек ранеными. Противник по скромным подсчётам потерял только убитыми до 750 человек и большое количество ранеными. В бою был захвачен майор, командир 1-го батальона 85-го румынского пп, который сообщил много данных о противнике» [9, л. 12].
12 и 13 февраля 1-я румынская пд снова атаковала в Криштоповке. Согласно донесению о безвозвратных потерях 38-й кавалерийской дивизии, составленному 24 марта 1942 г., с 15 февраля по 5 марта 1942 г. дивизия потеряла убитыми рядового и младшего командирского начсостава - 92 человека [11, л. 1-11].
11 февраля 1942 г. румынский диктатор Й. Ан-тонеску прибыл в штаб-квартиру А. Гитлера и присутствовал на докладе генерала А. Йодля с разбором военной обстановки на Восточном фронте [12, с. 243]. Ранее в письме Антонеску от 29 декабря 1941 г. Гитлер писал о том, что приход зимы приостановил наступательные операции на Востоке. Для стабилизации фронта некоторые немецкие части были вынуждены временно отойти. Гитлер делился своими соображениями с румынским диктатором: «С военной точки зрения, я считаю неправильным проводить глубокое отступление, оставляя противнику без боя территории, ранее захваченные нами в тяжёлых боях. Наоборот, я считаю правильным беспокоить противника беспрерывно короткими атаками, сохраняя по возможности собственные силы и изматывая силы врага» [13, л. 214].
13 февраля 1-я румынская пд получила приказ от 11-го немецкого ак продолжать продвижение на север и 14 февраля достичь населенного пункта Ан-дреевка, а к 15 февраля выйти на линию Миловка - Уплатное. По данным румынской разведки, перед правым флангом их дивизии в направлении Кришто-повка - Миловка находились советские 148-й и 150-й кавалерийские полки 38-й кавалерийской дивизии, усиленные батальонами 1143-го полка. В районе Анд-реевка - Берестовая предположительно дислоцировался полк кавалерии. Полк пехоты располагался вдоль железной дороги Песчанка - Лозовая. К востоку и западу долины р. Самара дислоцировался 3-й кавалерийский корпус, усиленный 351-й пд.
Утром 14 февраля главные силы 1-й румынской пд (93-й, 85-й полки, пушечный дивизион и батарея гаубиц) повели наступление в направлении Криш-топовка - Миловка. 5-й ссп, при поддержке одной батареи, получил задачу наступать в направлении Самойловка - Песчанка. Разведывательный отряд, усиленный стрелковой ротой румын и немецкой ротой, атаковал советские войска в районе Андре-евка - Берестовая, пытаясь продвинуться в направлении на Алексеевку с целью прикрытия правого фланга дивизии. Главным силам 1-й румынской пд во взаимодействии с 5-м пп удалось преодолеть серьёзное сопротивление советских войск на линии Андреевка - Димитровка, Ивановка, Григорьевка и Миловка - Уплатное - Песчанка и достичь к 15 февраля рубежа Песчанка - Миловка [8, л. 4]. Таким образом, поставленную немецким командованием задачу на 15 февраля румыны выполнили и получили приказ продолжать наступление правым флангом в направлении Миловка - Рудаевка для овладения Раздольная.
В Домаха (населённом пункте, расположенном на железной дороге Лозовая - Восток) находились части 270-й и 361-й сд (около 2-х полков пехоты и 2-х полков кавалерии). Советские подразделения заняли оборону на участке Лозовая - Рудаевка. Немецкий капитан, с которым румынский разведотряд установил связь, сообщил, что в долине р. Самара немцы отошли от Доброволье к Добринка. Эти населённые пункты теперь тоже были заняты Красной армией. Советские бойцы отбили Тимофеевку, организовали оборону в Алексеевке. Там были перехвачены и убиты посыльные румыны, направленные для установления связи со своим отрядом разведчиков.
17 февраля 1-я румынская пехотная дивизия пыталась вести наступление, преодолевая сильное сопротивление Красной армии на участке Лозовая -Рудаевка. В ходе наступления правый фланг и тыл румынской дивизии оказались без прикрытия. В отчёте о боевых действиях 1-й румынской пд отмечено: «Мы запросили информацию у штаба немецкого 11-го ак о противнике в этом районе и обратились с просьбой принятия мер по оказанию помощи. Не могли установить связь и на левом фланге дивизии с немецкими частями, наступающими в направлении на город Лозовая» [8, л. 8-9].
18 февраля, по данным румынской разведки, в Домахе оборонялся 1 батальон 74-го сп (361-й сд) и 1 батальон 973-го сп (270-й сд), в Рудаевке - 150-й и 148-й кавполки 38-й кавдивизии. Из Лозовой вышел бронепоезд, ведя огонь по румынским частям. 5-й румынский пп, поддержанный вторым дивизионом 1-го артполка и одной батареей 38-го артполка, занимая левым флангом Варваровку, не смог выполнить поставленную задачу и захватить высоту 185,5 (элеватор) из-за больших потерь. 93-й румынский пп при поддержке ранее приданной артиллерии овладел рубежом Весёлый - Галиха. Слева его контратаковали двумя ротами советские бойцы. 19 февраля 1-я румынская пд приняла участие в наступлении 11-го немецкого ак на город Лозовая. Ей был отдан приказ: совместно с 298-й пд левым флангом овладеть городом, оборонять ранее занятые позиции до полного очищения Лозовой.
Румынские подразделения не выполнили поставленную перед ними задачу. Штаб 5-го пп не установил никакой связи с немецкими частями, которые наступали на город Лозовая. И отряд разведчиков по причине отсутствия связи не согласовал свои планы наступления с отрядом Колерман, находившимся ещё в районе Александрополь [8, л. 13]. К исходу дня румынская дивизия оказалась в тяжёлом положении, имея незащищённый левый фланг, удобный для удара со стороны Лозовая, где были разведчиками замечены 973-й полк 270-й сд и 74-й пп 361-й сд, примерно 2 полка кавалерии и больше 20 танков. Правый фланг и тыл уже подвергались сильным атакам двух кавалерийских дивизий (38-й в районе Рудаевка - Кантили, другая -в районе Дягово - Берестовая [8, л. 14].
20-21 февраля фронт 1-й пд был смят двумя советскими кавалерийскими дивизиями, которые продвинулись до Софиевки, что в 10 км юго-восточнее Лозовой. К 22 февраля 1-я дивизия отошла на линию Васильевка - Софиевка. В ночь на 20 февраля штаб немецкого 11-го ак отдал румынской дивизии приказ: «Корпус прекращает наступление для того, чтобы отразить атаку противника, который угрожает северному флангу армейского корпуса. Атака противника ожидается и на фронте 1-й дивизии. 1-й пд подготовиться к противотанковой обороне и удержать позиции любой ценой» [8, л. 15].
Уже ночью 20 февраля, при свете луны, советские подразделения 6-й армии Юго-Западного фронта атаковали батальоны первой линии 93-го румынского пп и под утро ворвались в Галича-1 и Галича-2. До утра румынские батальоны удерживали свои позиции. Атакуя из города Лозовая, советские танкисты прорвались во фланг и тыл румынского батальона, уничтожив при этом противотанковые пушки и миномёты. Были ранены командир батальона и несколько офицеров. Около 12-15 советских танков, которые предприняли атаку из Лозовая, прошли через боевые порядки румынской пехоты, расчленили подразделения и преследовали их к югу от железной дороги.
Командование 1-й пд пыталось стабилизировать обстановку и приказало 93-му пп «контратаковать во фланг наступающего из Лозовая противника» [8, л. 17]. Но командир 93-го пп доложил, что атака пехоты и танков противника была настолько сильная, что невозможно было перейти в контратаку. В свою очередь он приказал двум батальонам полка обороняться на линии Домаха - Шевченко. Румынская разведгруппа решила обороняться на линии Варваровка - хутор Шевченко. Контратаки румын успеха не имели. Подразделения отступали, сообщая: «Начальник штаба и офицеры штаба, находящиеся в Уплатное, вышли к высотам севернее и восточнее Уплатное, остановили подразделения, перегруппировали их и организовали сопротивление на линии Варваровка - Уплатное - Миловка» [8, л. 19]. Утром 20 февраля советские подразделения захватили населённый пункт Раздольная. Румыны пытались удержать занятые рубежи. В журнале боевых действий 6-й армии Юго-Западного фронта так описано наступление советских подразделений: «21 февраля на рубеже Пролетарский - хутор НовоУплатное части 1-й пд румын, оказывая незначительное сопротивление наступающим частям, отходят в юго-западном направлении.
6-й кавалерийский корпус в составе 49-й, 26-й, 38-й кавалерийских дивизий и 7-й танковой бригады продолжали громить части 1-й пехотной дивизии румын. К 13.00 49-я кавалерийская дивизия двумя кавалерийскими полками вела бой за населённый пункт Пролетарский, 26-я кавалерийская дивизия сражалась за освобождение Ново-Уплатнова, 38-я кавалерийская дивизия занимала сёла Алексеевка, Григорьевка, Андреевка» [14, л. 79]. Утром 21 февраля 93-й румынский пехотный полк был атакован в Песчанке. Он отступил, организовав сопротивление в Александровке. Советские войска во второй половине дня 22 февраля из Лозовой атаковали на флангах батальон 5-го пп, находившегося в Варваровке. Батальон предпринял неудачную контратаку и вынужден был отойти к хутору Картави. Из Картави советские подразделения выбили вскоре румын.
В течение дня 21 февраля 85-й румынский полк удерживал линию Самойловка - Коростовзово, куда прибыли на помощь немецкие части. В ночь с 21 на 22 февраля, для того чтобы избежать преследования 6-й советской армии, наступавшей главными силами по долине Песчанка, командир 1-й пд решил на рассвете 22 февраля перейти в контратаку. Начиная с ночи с 22 на 23 февраля, 5-й и 93-й пп румын отражали атаки 973-го пп 270-й сд. Советский полк атаковал 3 батальонами в направлении: Ново-
Ивановка - высота 163,3 (на этом направлении действовали танки), Ударник - хутор Гончаров к Ми-хайловке - высота 167,9.
Февральские бои 1942 г. в плане потерь румынские и советские источники трактуют совершенно по-разному. Так, в румынских отчетах отмечается, что с 1 по 28 февраля 1942 г. 1-я пд понесла потери: «убитыми - 14 офицеров, 9 - унтер-офицеров, 462 - солдат; ранеными - 2342 человека» [8, л. 34]. О пленных ничего не сказано. Согласно же отчетам 6-й армии Юго-Западного фронта только за период с 18 по 23 февраля 1942 г. 1-я румынская пехотная дивизия потеряла убитыми 4500 человек, в плен захвачено 119 человек» [14, л. 103]. В любом случае эти цифры подтверждают, что февральские бои 1942 г. на барвенковском выступе носили ожесточённый характер. Ни о каком временном затишье речи не шло. Противоборствующие стороны действовали с переменным успехом. Осложняла ситуацию погода. 14 февраля наступила оттепель. Низины заполнились талой водой. Снег проваливался под копытами лошадей. Солдаты шли зачастую по колено в воде. Артиллерия продвигалась с большим трудом, отставала от пехоты.
Румынское командование тяжело переживало отсутствие в дивизии противотанковых средств, неоднократно в отчётах о боевых действиях 1-й пехотной дивизии подчеркивая, что «появление танков противника на поле боя очень пугало некоторых солдат» [8, л. 37]. Февральские позиционные бои 1942 г. чётко обозначили противоречия в лагере сателлитов и пренебрежительное отношение немецкого командования к румынским союзникам. Вот только несколько эпизодов из отчётов о боевых действиях 1-й пд, подтверждающих это.
7 февраля во время наступления на село Криш-топовка, когда проходило окружение этой деревни, румынский штаб потребовал провести авиаразведку, чтобы узнать, имеются ли в районе Берестовая - Ново-Андреевка советские части. К 12 часам сообщили: «Авиация выяснила, что в районе Берестовая - Тимофеевка войск противника нет». А через 2-3 часа «противник из этого района контратаковал силой свыше двух батальонов» [8, л. 29-30]. 15 февраля румыны попросили 11-й немецкий ак прикрыть фланги дивизии и сообщить об отряде Кол-лерман, который действовал в районе р. Самара. «Нам ответили, что этот отряд наступает в районе Александрополь, что не соответствовало действительности», - зафиксировали в документах румыны [8, л. 4]. 16 февраля румыны запросили авиацию у армейского корпуса, но безрезультатно [8, л. 6]. Во время атаки на Лозовую румыны не смогли установить контакт с немецкими подразделениями, атаковавшими этот населенный пункт. «Нам сообщили, что немцы уже в Лозовой, а это было не так» [8, л. 30]. 22 февраля наступавшие румынские подразделения не имели поддержки артиллерии, так как вся румынская артиллерия была взята 11-м немецким ак для поддержки своих частей. Вместо этого дивизии была послана утром 22 февраля одна немецкая батарея - 5 орудий, которая во время контратаки 22 февраля не открывала огня под разными предлогами. После четырех дней эту батарею забрали [8, л. 31-32].
Анализ февральских боев 1942 г. позволяет утверждать, что румынские подразделения стремились выполнить поставленные перед ними задачи. Но их неудачи могут быть объяснены героизмом и мужеством противостоявших советских подразделений. Халатность немцев, выполнявших союзнические обязательства в этих боях больше на словах, чем на деле, несомненно, имела место. Эти февральские бои в 1942 г. советские войска вели героически как против немецко-фашистских войск, так и против румынских сателлитов. Шел первый период Великой Отечественной войны, впереди были коренной перелом в войне и наши главные победы.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Жирохов, М.А. Битва за Донбасс. Миус-Фронт. 1941-1943 [Электронный ресурс] / М.А. Жирохов. - М. : Центрполиграф, 2011. - 320 с. - (URL: https://uchil.net/?cm=81179).
2. Лебедев, Н.И. Крах фашизма в Румынии [Текст] / Н.И. Лебедев - М. : Наука, 1976 - 633 с.; Румыния во Второй мировой войне [Текст] / И. Попеску Пуцурь [и др.]. - Бухарест, 1964 - 298 с.
3. Рябышев, Д.И. Первый год войны [Текст] / Д.И. Рябышев. - М. : Воениздат, 1990. - 225 с.
4. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 [Текст]. - Т. 2. - М. : Военное издательство МО СССР, 1961. - 681 с.
5. Савин, М.В. Барвенково-Лозовская операция (18-31 января 1942 г.). Краткий оперативно-тактический очерк [Текст] / М.В. Савин. - М., 1943. - 45 с.
6. Исаев, А.В. Краткий курс истории ВОВ. Наступление маршала Шапошникова [Текст] / А.В. Исаев. - М. : Яуза; Эксмо, 2005. - 699 с.
7. Центральный архив Министерства Обороны РФ (далее - ЦАМО). Ф. 500. Оп. 12462. Д. 474.
8. ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12462. Д. 491.
9. Журнал боевых действий 341-й стрелковой дивизии [Электронный ресурс]. - (URL: https://pamyat-
naroda.ru/documents/view/?id=131986965).
10. Материалы к краткой характеристике 341-й стрелковой дивизии [Электронный ресурс]. - (URL: https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=132239219&backurl=q% 5C341% 20% D1% 81% D0% B4).
11. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 589.
12. Гальдер, Ф. Военный дневник. Ежедневные записи начальника Генерального штаба Сухопутных войск 19391942 гг. [Текст] / Ф. Гальдер. - М. : Воениздат, 1968-1971. - Т. 3. - 508 с.
13. ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12462. Д. 472.
14. Выписка из журнала боевых действий 6-й армии Юго-Западного фронта [Электронный ресурс]. - (URL: https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=136691179).
кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории, философии и социально-политических дисциплин,
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I
АННОТАЦИЯ. На основе анализа опубликованных и архивных документов Центрального архива Министерства обороны РФ рассматривается процесс участия венгерских войск в подготовке немецкого летнего наступления в 1942 г. на советско-германском фронте.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Красная армия, операция «Блау», 2-я венгерская армия, Брянский фронт, ЮгоЗападный фронт.
Cand. Hist. Sci., Docent of the Department of History,
Philosophy and Socio-Political Sciences,
Voronezh State Agricultural University named after Emperor Peter I
ABSTRACT. In the article, based on the analysis of published and archival documents of Central Archive of the Ministry of Defense of the Russian Federation, the process of the Hungarian troops’ participation in preparations for the German summer offensive in 1942 on the Soviet-German front is considered.
KEY WORDS: Red Army, Operation Blau, Hungarian Second Army, Bryansk Front, South-Western Front.
Идея операции «Блау» («Синяя») зародилась у высшего военно-политического руководства Германии в ситуации, сложившейся в итоге контрнаступления Красной армии под Москвой, когда в течение 5 декабря 1941 г. - 7 января 1942 г. войска группы армий «Центр» были отброшены от столицы СССР. Это была первая стратегическая победа Красной армии; немцы впервые утратили стратегическую инициативу, а главное, был окончательно сорван германский план блицкрига, на котором строились все расчеты Гитлера и его союзников на победу во Второй мировой войне. Сразу после выигранной битвы под Москвой советские войска перешли в стратегическое наступление на девяти фронтах в полосе шириной 1300 км. Хотя поставленные цели (освобождение Крыма, Донбасса, прорыв блокады Ленинграда и разгром группы армий «Центр» в районах Ржева, Вязьмы и Смоленска) из-за неподготовленности операции и упорного сопротивления противника достигнуты не были, к концу апреля - началу марта 1942 г. Красная армия продвинулась на ряде направлений от 50 до 250 км.
Однако главной проблемой германского командования была даже не утрата части захваченных территорий, а небывало высокие потери личного состава и материальной части вермахта. За первый год Второй мировой войны людские потери Германии составили 39 тыс. убитыми, 143 тыс. ранеными, 24 тыс. пропавшими без вести, итого 206 тыс. чел.; за последующие 10 месяцев (до нападения на СССР) общая цифра потерь вермахта выросла до 300 тыс. чел. [1, с. 195]. С 22 июня 1941 г. этот показатель стал увеличиваться многократно более высокими темпами: на 31 декабря, согласно данным ОКВ, потери германских сухопутных войск на Восточном фронте составили убитыми 7120 офицеров, 166 602 унтер-офицеров и рядовых, ранеными 19 016 офицеров, 602 292 унтер-офицера и рядовых, пропавшими без вести 619 офицеров, 35 254 унтер-офицеров и рядовых, итого 830 903 человека, то есть 26% от общей численности сил вермахта на Востоке [2]. К 10 марта 1942 г. уровень потерь вырос до цифры 31 812 офицеров, 1 009 188 унтер-офицеров и рядовых, что составило 32,5% от средней численности сухопутных войск на Восточном фронте (это без учета больных и обмороженных, хотя последних зимой 1941/1942 гг. было очень много) [3].
Таким образом, потери за восемь месяцев войны на Востоке в три с половиной раза превысили потери за двадцать два месяца войны на Западе; иными словами, среднемесячные потери выросли с 13,6 тыс. чел. до 130,1 тыс. чел. - в 9,6 раза! Была потеряна третья часть от 3,2 млн первоначального состава группировки сухопутных войск, выставленной Германией против СССР; подавляющее большинство соединений утратили первоначальную боеспособность. Потери материальной части были еще больше: на 20.03.1942 г. германскими бронетанковыми войсками было потеряно 3319 танков и 173 штурмовых орудия (84% от первоначальной численности), а поступило в танковые и моторизованные дивизии за это время лишь 732 танка и 17 штурмовых орудий. Подвижные соединения утрачивали подвижность, не говоря уже о пехоте: на март 1942 г. было потеряно 40 тыс. грузовых автомобилей, столько же мотоциклов, почти 30 тыс. вагонов и около четверти конского тяглового состава. Военный дневник начальника германского ген-
Информация для связи с автором: omipfil@yandex.ru
штаба сухопутных войск генерал-полковника Галь-дера за зимние месяцы 1941/1942 гг. буквально пестрит записями о всевозможных донесениях, докладах, совещаниях и заседаниях, где идет речь о растущих потерях и поиске способов их возмещения; одним из последних стало привлечение сил сателлитов в резко увеличившихся масштабах [4, с. 54; 5].
19 декабря 1941 г. германский фюрер лишил занимаемых должностей главнокомандующего сухопутными войсками генерал-фельдмаршала фон Браухича и командующего группой армий «Центр» генерал-фельдмаршала фон Бока (вскоре за ними последовали командующий 2-й танковой группой генерал-полковник Гудериан и командующий 4-й танковой группой генерал-полковник Гёпнер). Отныне главнокомандующим сухопутными войсками был сам Адольф Гитлер; на следующий день новоиспеченный главком собрал совещание, где поставил перед начальником генштаба ОКХ Гальдером первоочередные задачи, в перечне которых значилось и следующее: «Италии, Венгрии и Румынии будет предложено своевременно выставить крупные силы на 1942 г., с тем чтобы они прибыли к месту назначения до начала весенней распутицы, откуда маршевым порядком вышли бы к линии фронта» [5]. В конце января 1942 г. в Будапешт отправился начальник штаба ОКВ генерал-фельдмаршал Кейтель, которому было поручено, его же словами, «добиться мобилизации венгерской армии (мирного времени) и отправки по меньшей мере 50% личного состава венгерских вооруженных сил на Восточный фронт для участия в летнем наступлении вермахта 1942 г.». Кейтель потребовал направить на советско-германский фронт 15 пехотных дивизий, 2 горные бригады, кавалерийскую бригаду, бронетанковую дивизию и 10 дивизий для несения охранной службы. Венгерская сторона в свою очередь запросила поставку вооружений (прежде всего противотанковой артиллерии, танков и самолетов) и обязалась выставить только 7 охранных и 10 полевых дивизий [6, с. 293-295].
Последние подразделения составили 2-ю армию общей численностью 205 тыс. чел. под командованием генерал-лейтенанта Густава Яни. Как отмечал майор 4-го отдела венгерского генерального штаба Бела Мориц в подготовленном им обобщении опыта боевых действий на Восточном фронте (доклад был сделан на совещании генштаба 14-15 декабря 1942 г. в присутствии начальника королевского генерального штаба генерал-полковника Ференца Сомбатхеи), «армия состояла из 3 корпусов, одной танковой дивизии и одной смешанной авиагруппы. Армия была оснащена тяжелым вооружением в количестве, далеко превосходящем штаты мирного времени и наши мобилизационные планы. Кроме сопровождающих пехотные полки пушечных батарей, минометных рот и ротных противотанковых орудий, кроме рот автоматчиков пехотных батальонов, имелись минометные взводы и взводы противотанковой артиллерии. Боевой состав армии характеризовался большим количеством пехоты» [7, л. 1].
Венгерская легкая пехотная дивизия состояла из двух пехотных полков, в состав каждого из которых входили три пехотных батальона. В батальоне состояли 3 пехотные роты (6 пулеметов, 2 противотанковых ружья, 2 50-мм гранатомета в каждой), рота тяжелого вооружения (12 пулеметов, 4 37-мм противотанковых пушки, 4 81-мм миномета), взвод связи и обоз. Полковыми частями были: саперная рота (3 пулемета), повозная пулеметная рота (12 пулеметов), противотанковая пушечная рота (две 50-мм и шесть 37-мм противотанковых пушек), минометная рота (восемь 81-мм минометов), полевая батарея легких пушек (четыре 80-мм полевых орудия), гусарский взвод (3 пулемета), самокатный взвод (3 пулемета), взвод связи.
Частями дивизионного подчинения являлись: легкий полевой артиллерийский полк (на конной тяге, два дивизиона), в составе которого имелась легкая полевая пушечная батарея (4 80-мм орудия), батарея легких гаубиц (4 105-мм гаубицы), две батареи 100-мм легких гаубиц (8 орудий), две батареи средних гаубиц (8 150-мм орудий); батарея зенитных орудий (6 40-мм зенитных пушек), гусарский эскадрон (12 пулеметов, два орудия).
При дивизии числилась группа армейского обоза в составе зенитно-пулеметной роты (10 пулеметов), пяти эшелонов обозов, эшелона грузовиков, эшелона обеспечения боеприпасами и заготовки продовольствия, полевой пекарни, тыловой роты (16 пулеметов), эшелона медицинского обеспечения, эшелона санитарных грузовиков и штаба инженерного управления (3 рабочие роты) [8].
2-я венгерская армия состояла из девяти легких пехотных дивизий в составе трех корпусов: 3-й корпус: 6-я легкая пехотная дивизия (22-й, 52-й пехотные полки), 7-я лпд (4-й, 35-й пп), 9-я лпд (17-й, 47-й пп); 4-й корпус: 10-я лпд (6-й, 36-й пп), 12-я лпд (18-й, 48-й пп), 13-я лпд (7-й, 31-й пп);
7-й корпус: 19-я лпд (13-й, 43-й пп), 20-я лпд (14-й, 23-й пп), 23-я лпд (21-й, 51-й пп). Частями корпусного подчинения были: батальон связи (2 пулемета); зенитно-ракетный дивизион (одна зенитнопушечная батарея - 4 80-мм орудия и 2 пулемета, другая - 4 40-мм пушки); средне-гаубичный артдивизион на мехтяге (две средне-гаубичных батареи, в каждой по 4 150-мм гаубицы и 2 пулемета); такой же дивизион на конной тяге; саперный батальон (4 пушки, 4 пулемета); артиллерийско-инструментальная рота; самокатный батальон (две самокатных роты, в каждой 12 пулеметов и 2 противотанковых ружья, моторизованный пушечный взвод - 2 орудия, взвод ПТО - 2 37-мм пушки, саперный взвод и взвод связи); гусарский эскадрон (12 пулеметов, 2 пушки); гусарская батарея (2 80-мм орудия); тыловая рота (16 пулеметов); обозы и подразделения обеспечения.
Наконец, частями армейского подчинения являлись: два батальона связи; зенитный дивизион (три батареи по 4 80-мм орудия и 2 пулемета, батарея из 5 40-мм пушек, прожекторная рота); две отдельных зенитных батареи (по 5 40-мм пушек); дивизион тяжелой артиллерии на мехтяге (2 батареи по 2 210-мм гаубицы); дивизион средней артиллерии на мехтяге (три батареи по 4 105-мм пушки); моторизованный саперный батальон (6 пушек, 6 пулеметов); моторизованная рота химической борьбы (8 газометов, 1 пулемет); огнеметная рота (72 огнемета, 1 пулемет); рота радиоразведки; рота военных корреспондентов; три тыловых батальона (в каждом 4 роты по 16 пулеметов, взвод полевой жандармерии, пулеметный взвод); части обеспечения (позднее в состав 2-й армии прибыли еще две саперных роты и три батареи мортир по 4 305-мм орудия в каждой).
В подчинении штаба 2-й армии находилась 1-я венгерская танковая дивизия, включавшая в себя: 30-й танковый полк (штаб полка - 6 легких танков Pz 38t и 2 легких танка «Толди»; два танковых батальона, в каждом: штаб - 1 легкий танк «Тол-ди»; по одному взводу разведки, регулировщиков, саперов и связистов; танковый взвод - 6 легких танка Pz 38t; две роты легких танков - по 20 Pz
38t; рота средних танков - 11 Pz IV и 3 Pz 38t); 1-я мотострелковая бригада (штаб, взводы саперный и связи, рота регулировщиков, рота мотоциклистов -12 пулеметов, 2 противотанковых ружья, три мотострелковых батальона, в каждом взводы саперный, связи и мотоциклистов, минометная рота (4 81-мм миномета), пулеметная рота (12 пулеметов), рота ПТО (2 50-мм и 4 37-мм орудия), три стрелковых роты (в каждой 12 пулеметов, 2 50-мм гранатомета, 2 ПТР); 51-й противотанковый батальон (штаб - 3 легких танка «Толди» и легкая противотанковая САУ «Нимрод», три роты по 6 САУ «Нимрод» и 1 танку «Толди», разведрота, рота ПТО - 2 50-мм и 4 37-мм орудия, мотострелковая рота - 12 пулеметов, 2 50-мм гранатомета, 2 ПТО, рота мотоциклистов -12 пулеметов, 2 ПТО, рота бронемашин - 14 бронеавтомобилей «Чаба», саперный, телеграфный и инженерный взводы); два легко-гаубичных артдивизиона на мехтяге по три батареи из 4 105-мм гаубиц в каждой; зенитный дивизион - две батареи по 4 80-мм орудия и прожекторный взвод; мобильный батальон связи - 2 взвода связи и танковый взвод -4 танка «Толди»; моторизованная саперная рота; моторизованная рота регулировщиков; эшелон тяжелых понтонных машин; подразделения тыла, в т.ч. моторизованная зенитно-пулеметная рота - 6 пулеметов и полевой отряд резерва - 6 Pz 38t и 2 Pz IV. Также в армейском подчинении находилась 1-я венгерская авиационная группа: дивизион
дальней разведки (эскадрилья дальней разведки - 4 Хейнкель He-111, эскадрилья ближней разведки -12 Хейнкель He-146, транспортная эскадрилья - 3 Юнкерс Ju-86 и 3 Капрони Ca.101); истребительный дивизион (две эскадрильи по 11 Re.2000 Нща); бомбардировочный дивизион (эскадрилья 14 Капро-ни Са.135bis; три зенитно-пушечных взвода (по одной 40-мм пушке); инженерные и др. подразделения [9, с. 155-158].
Мобилизация в Венгрии началась 24 февраля 1942 г. Шесть недель было отведено на подготовку войск с тем, чтобы 2-я армия в полном составе была бы переброшена на советско-германский фронт. Чтобы подбодрить отправляющихся на Восток гонведов, венгерское правительство объявило о введении ряда льгот для призванных военнослужащих и членов их семей (в гражданском судопроизводстве, при получении кредитов, сохранении права занять прежнее место работы или службы, получении пособий и т.п.) [10, л. 3-7]. Правда, никаких всплесков энтузиазма у увозимых на фронт солдат это не вызывало: как говорится в уже цитировавшейся справке венгерского военного министерства, «недовольные венгерские войска отправлялись на войну почти в тайне (без военных патриотических песен)» [11, с. 226].
Первым прибыл на Восточный фронт 3-й корпус, поступив в оперативное подчинение 2-й немецкой армии. С 18 апреля по 14 мая 1942 г. корпус был расквартирован в окрестностях Курска. Затем его 7я лпд сменила на линии фронта 68-ю немецкую дивизию, а 9-я лпд - 16-ю немецкую моторизованную дивизию, заняв линию обороны в 60 км. За два месяца позиционных боев потери 7-й лпд составили 171 человек убитыми и 340 ранеными, 9-й лпд - 29 убитыми и 102 ранеными [7, л. 69, 70]. Что касается 6-й лпд, то она была отправлена в южную часть Брянских лесов, где действовал отряд Ковпака и другие партизанские отряды, и тоже несла потери: так, только с 15 по 20 мая дивизия потеряла убитыми, ранеными и пропавшими без вести 62 чел., доложив при этом об уничтожении 886 партизан (на самом деле речь шла о сожжении деревень и массовых казнях мирных граждан) [12, с. 57].
Неожиданный итог операции «Тайфун» окончательно убедил Гитлера, что нанести поражение СССР путем молниеносного разгрома его вооруженных сил невозможно. Новая идея заключалась в том, чтобы придать боевым действиям экономическое целеполагание: завоевать основные районы
добычи топливно-энергетических ресурсов и тем самым подорвать военно-индустриальный потенциал противника. Для этого требовалось полностью оккупировать Донбасс и захватить северокавказские и закавказские нефтяные прииски. Соответствующий план был представлен при обсуждении плана летней кампании 28 марта 1942 г., затем окончательно доработан и изложен в директиве ОКВ № 41 (05.04.1942 г.). Речь шла о том, чтобы «снова овладеть инициативой и навязать свою волю противнику», для чего требовалось «окончательно уничтожить оставшиеся еще в распоряжении Советов силы и лишить их по мере возможности важнейших военно-экономических центров». Первоочередная задача была сформулирована так: «Все
имеющиеся в распоряжении силы должны быть сосредоточены для проведения главной операции на южном участке с целью уничтожить противника западнее Дона, чтобы затем захватить нефтеносные районы на Кавказе и перейти через Кавказский хребет». Целью этой «главной операции» являлось «разбить и уничтожить русские войска, находящиеся в районе Воронежа, южнее его, а также западнее и севернее р. Дон». «Началом всей этой операции должно послужить охватывающее наступление или прорыв из района южнее Орла в направлении на Воронеж»; после захвата Воронежа начинался второй этап - «танковые и моторизованные соединения должны будут продолжать наступление своим левым флангом от Воронежа вдоль р. Дон на юг для взаимодействия с войсками, осуществляющими прорыв примерно из района Харькова на восток», чтобы окружить и уничтожить «силы русских»; на третьем этапе все наступающие группировки должны были соединиться в районе Сталинграда, который требовалось захватить «или, по крайней мере, подвергнуть его воздействию нашего тяжелого оружия с тем, чтобы он потерял свое значение как центр военной промышленности и узел коммуникаций».
Важнейшим условием проведения второго и третьего этапов являлось надежное обеспечение северо-восточного фланга наступления, для чего намечалось оборудовать оборонительный рубеж вдоль Дона; занять позиции здесь, высвободив тем самым немецкие соединения, и должны были «союзные войска» - венгры, итальянцы и румыны [13, с. 320-323]. Больших надежд на боевые качества войск сателлитов немецкое командование не возлагало, однако, исходя из опыта 1941 г., когда румынские армии, венгерский и итальянский экспедиционные корпуса худо-бедно справлялись со своими задачами, считало вполне возможным для них держать пассивную оборону за водным рубежом (для основной массы союзных войск задача заключалась не в том, чтобы непосредственно участвовать в наступательных операциях, а в том, чтобы вторым эшелоном со свежими силами подойти к Дону и занять оборону) [14].
План операции первого этапа получил кодовое название «Блау». Для осуществления наступления была собрана крупнейшая группировка войск - на конец июня 1942 г. в состав группы армий «Юг» входило восемь армий: 2-я полевая, 4-я танковая, 2-я венгерская, 1-я танковая, 17-я полевая, 11-я полевая и 8-я итальянская (румынские соединения были включены в 17-ю и 11-ю армии; 3-я и 4-я румынские армии должны были прибыть позднее); авиационную поддержку обеспечивал 4-й воздушный флот. На южном крыле Восточного фронта были сосредоточены около 37% пехотных и кавалерийских и свыше 50% танковых и моторизованных соединений вермахта; принять участие в наступлении должно было 900 тыс. солдат и офицеров, 1260 танков, 17 тыс. орудий и минометов, 1640 самолетов. Противостоящие группе армий «Юг» войска Брянского, Юго-Западного и Южного фронтов, не успевшие восстановить силы после поражений в мае - июне 1942 г. под Харьковом и в Крыму, по численности личного состава и количеству танков не уступали врагу, однако противник имел значительный перевес в артиллерии и авиации [15, с. 417418; 16, с. 64; 17, с. 17-18].
Гитлер лично отдал распоряжение, как должна быть использована в планируемом наступлении 2-я венгерская армия, когда командующий ею генерал-полковник Густав Яни прибыл в «Вольфсшанце». В группе армий «Юг», которой командовал генерал-фельдмаршал фон Бок, была создана армейская группа «Вейхс» под командованием генерал-полковника Максимилиана фон Вейхса - командующего 2-й полевой армией. Кроме последней, в армейскую группу Вейхса входила 4-я танковая армия под командованием генерал-полковника Германа Гота и 55-й отдельный армейский корпус под командованием генерала пехоты Эрвина Фирова; сюда же была включена и 2-я венгерская армия. Армейская группа развертывалась к востоку от Курска, на 110-километровом фронте между верховьями рек Сосны и Сейма. С севера на юг позиции занимали: 55-й ак (299-я пд, 1-я моторизованная бригада СС, 45-я и 95-я пд), 385-я и 82-я пд 13-го ак 2-й армии, 9я тд и 3-я мд 24-го тк 4-й танковой армии, 88-я и 377я пд 13-го ак, 48-й тк 4-й танковой армии (моторизованная дивизия «Гроссдойчланд», 24-я тд), 2-я венгерская армия и 7-й ак (387-я пд, 16-я мд); во втором эшелоне стояли 383-я пд и 11-я тд. Всего в составе группы «Вейхс» было 19 дивизий, в том числе 3 танковых и 3 моторизованных; в тылу располагались две дивизии резерва ОКХ (340-я и 323-я), а на фронт двигались шесть венгерских пехотных и одна танковая дивизии, которые планировалось задействовать по мере их прибытия.
На 24 июня 1942 г. в распоряжении армейской группы находилось 506 398 человек, 95 423 лошади, 799 орудий, 378 противотанковых орудий, 828 зенитных орудий, 82 штурмовых орудия, 587 танков. Значительными силами располагал и сосед группы Вейхса с правого фланга - 6-я полевая армия под командованием генерала танковых войск Паулюса. В ее состав входило четыре армейский и один танковый корпус (40-й тк, 29-й, 8-й, 17-й и 51-й ак) - 17 пехотных, 2 танковых и 1 моторизованная дивизия (270 тыс. солдат и офицеров, 3 тыс. орудий и минометов, 500 танков). В локтевой связи с венгерским участком фронта занимали позиции 57-я, 75-я и 168-я пд 29-го ак, а южнее, в районе Волчанска, была сосредоточена ударная группировка - 8-й ак (389-я, 305-я и 376-я пд) и 40-й тк (29-я мд, 23-я и 3-я тд, приданные 100-я лпд и 336-я пд) [7, л. 3-4; 18, л. 6; 19, с. 157; 20, с. 165, 169; 21, с. 114; 22, с. 48; 23, с. 98]. Таким образом, 2-я королевская венгерская армия развертывалась между двумя мощными наступательными группировками.
Какие в этой конфигурации ставились перед ней конкретные задачи?
Командование 2-й немецкой армии получило директиву от группы армий «Юг» на участие в операции «Блау» 1 мая 1942 г. 3 мая штаб 2-й армии в своей оценке обстановки конкретизировал общие положения, указав, что венгерская армия, сконцентрировав основные силы на левом фланге, должна замкнуть кольцо окружения противника северо-западнее Старого Оскола, при этом «рациональным является не только включение одного немецкого корпусного штаба и одной немецкой пехотной дивизии, но и подчинение этому штабу также одной танковой дивизии в ходе проведения удара на Старый Оскол». Армейский план операции под кодовым названием «Плановые маневры-1» от 23.5.1942 г. предусматривал придание венгерской армии немецких 387-й пд и 23-й тд, однако вскоре был скорректирован - вместо 23-й танковой венграм придали 16-ю моторизованную дивизию. Правда, кого кому придали на самом деле, понять не очень просто. С одной стороны, 2-я венгерская армия должна была действовать как самостоятельное объединение, находясь (с 20.05.1942 г.) в подчинении штабу 2-й армии (начальником немецкого штаба связи при венгерской армии был полковник Вальденбург). С другой стороны, вплоть до начала наступления на фронте находились только три венгерских дивизии; остальные соединения, прибытие которых ожидалось с 24.06.1942 г., по приказу группы армий «Юг» (3.06.1942 г.) должны были поступать в распоряжение 2-й венгерской армии, тогда как армейская группа «Вейхс» ходатайствовала (25.06.1942 г.), «чтобы, если это позволит обстановка, ей были временно подчинены вновь прибывающие венгерские дивизии». При этом из уже имеющихся 7-я и 9-я венгерские дивизии включались в состав 3-го венгерского ак, а 6-я - в состав 7-го немецкого ак. В основном приказе на наступление генерал-полковника Густава Яни буквально говорилось, что «главный удар армии наносит 7-й немецкий корпус (6-я венгерская, 387-я и 16-я моторизованная немецкая дивизии)», чьи войска должны были прорвать советскую оборону, «обойти и захватить с тыла город Тим», после чего 16-й мд ставилась задача «как можно быстрей овладеть г. Старый Оскол и воспрепятствовать отходу противника на восток», далее же следовало: «3-му корпусу (9-я и 7-я дивизии) присоединиться к наступлению 7-го немецкого корпуса и в первый день овладеть районом юго-западнее г. Тим. В случае соответствующей поддержки с воздуха атаковать г. Тим». Таким образом, венгерский командующий, получая приказы от немецкого, отдавал приказы немецкому корпусу, но в составе последнего числилась венгерская дивизия: порядок подчиненности был довольно замысловатым [24, л. 2; 7, л. 6; 20, с. 164-167, 207, 233].
Кроме коллизий в управлении, у венгров имелись и другие проблемы. Когда в начале 1942 г. в Будапешт прибыла германская делегация во главе с начальником Управления вооружения армии генерал-лейтенантом Томасом, венгерским союзникам были обещаны поставки вооружения, однако до конца мая, по данным начальника 2-го отдела венгерского генштаба генерал-майора Уйсаси, прибыло только 25% самолетов, 40% танков и 60% орудий [20, с. 329]. Часть вооружения (например, немецкие орудия ПТО) поступила в венгерские войска уже на фронте перед началом наступления и была не до конца освоена. Имелись и пробелы в подготовке личного состава, поэтому в распоряжении группы армий «Юг» № 1215/42, направленном 19.05.1942 г. в штаб 2-й королевской венгерской армии, подчеркивалось, что «имеющееся в распоряжении до начала операции время следует использовать для адаптации в условиях восточного фронта и совершенствования боевой подготовки, особенно в противотанковой обороне». К условиям Восточного фронта адаптироваться было нелегко: как говорилось в докладе штаба 2-й армии № 012/42 по материальному обеспечению операции «Блау» (12.05. 1942 г.), «следует помнить о том, что до самого Дона местные ресурсы продовольствия будут полностью съедены вражескими войсками и что русские заранее уничтожат все запасы». Для наступления армейской группе было необходимо ежедневно 1000 т боеприпасов, 1750 т горюче-смазочных материалов, 500 т продовольствия и 450 т фуража, что требовало значительного количества транспортных средств (грузоподъемность имевшегося в распоряжении транспорта составляла 930 т, из которых только 330 т были пригодны для боевого использования), а главное, наличия самих путей передвижения, по которым можно было бы перебрасывать почти четыре тысячи тонн грузов в сутки; с последним имелись серьезные затруднения. «Сеть дорог в районе операции крайне плохая, - констатировалось в докладе оберквартирмейстера. - От сегодняшней линии фронта до Дона нет шоссейных дорог, а только проселочные дороги, состояние которых нельзя предсказать» [25, с. 170-172]. Природно-климатические условия театра предстоящих боевых действий между тем оценивались как неблагоприятные - в уже упомянутом обобщении боевого опыта венгерской армии 1942 г. характеристика «русской территории» была дана в следующих выражениях: «Она представляет многокилометровую широкую равнину, плоские необозримые просторы. Растительность в человеческий рост: травы, сорняки, злаки. Частые обрывистые овраги, глубокие долины. Редкие, беспорядочно разбросанные деревни. Крытые соломой, деревянные и глинобитные избушки. Грунтовые дороги, которые во время дождя сейчас же превращаются в грязь и непролазные топи, затем с невероятной быстротой высыхают за один день». Люди здесь под стать местности: «Население живет на картофеле, каше и подсолнухе. Непритязательный народ. Общественный уклад - пролетарский» [7, л. 6-7].
К предстоящим боям готовились не только немцы и венгры, но и «непритязательные» русские люди. Ударные группировки противника сосредоточивались: группа Вейхса - напротив стыка 40-й (командующий - генерал-лейтенант артиллерии М.А. Парсегов) и 13-й (командующий - генерал-майор Н.П. Пухов) армий Брянского фронта (командующий - генерал-лейтенант Ф.И. Голиков); 6-я армия - напротив стыка 28-й (командующий - генерал-лейтенант Д.И. Рябышев) и 21-й (командующий - генерал-майор В.Н. Гордов) Юго-Западного фронта (командующий - маршал С.К. Тимошенко). В состав 13-й армии входили пять стрелковых дивизий (15-я, 132-я, 143-я, 148-я, 307-я сд), одна стрелковая (109-я сбр) и одна танковая (129-я тбр) бригады; в первом эшелоне обороны стояли (с севера на юг) 132-я, 148-я, 143-я и 15-я сд. В состав 40-й армии входили шесть стрелковых дивизий (6-я, 45-я, 62-я, 121-я, 160-я, 212-я сд), три стрелковых (111-я, 119-я, 141-я сбр) и две танковых (14-я, 170-я тбр) бригады; в первом эшелоне стояли (с севера на юг) 121-я, 160-я, 212-я, 45-я и 62-я сд. В состав 21-й армии входили восемь стрелковых (76-я, 124-я, 226-я, 227-я, 293-я, 297-я, 301-я, 343-я сд) дивизий и одна мотострелковая (8-я мсд НКВД) дивизия, одна мотострелковая (1-я мсбр) и одна танковая (10-я тбр) бригады; в первом эшелоне стояли (с севера на юг) 8-я мсд НКВД, 1-я мсбр, 297-я, 227-я, 301-я, 293-я, 76-я и 124-я сд. В состав 28-й армии входили две гвардейских стрелковых (13я и 15-я гв. сд), три стрелковых (38-я, 169-я, 175-я сд) дивизии, три танковых (65-я, 90-я, 91-я тбр) бригады; в первом эшелоне стояли (с севера на юг) 169-я сд, 13я и 15-я гв. сд, 175-я и 38-я сд. В резерве Брянского фронта находились три танковых (1-й, 3-й, 16-й тк) корпуса и один гвардейский кавалерийский (3-й гв. кк) корпус, в резерве Юго-Западного фронта - четыре танковых (4-й, 13-й, 23-й, 24-й тк) корпуса и один кавалерийский (5-й кк) корпус; авиационную поддержку БФ осуществляла 2-я воздушная, ЮЗФ - 8-я воздушная армия [26, с. 596-598].
2-я венгерская армия занимала позиции против рубежа обороны левофланговых соединений 40-й и правофланговых соединений 21-й армий: 212-й,
45-й и 62-й сд 40-й А и 8-й мсд НКВД 21-й А. В соответствии с директивой Ставки № 170364 от 8 мая 1942 г. войска Брянского фронта строили полевые укрепления на глубину дивизионной оборонительной полосы (имелось в виду высвободить часть сил для создания ударных группировок, для чего и создавалась войсковая оборонительная линия по всему фронту) [27, с 195-196]. Правда, обороняться собирались не все: именно соединения левого крыла 40-й армии в течение первой половины мая 1942 г. готовились к нанесению удара в направлении Медвенское - Обоянь, однако в силу того, что в районе Курск - Щигры сконцентрировалась крупная группировка противника, угрожавшая правому флангу армии, наступление было отменено и 25 мая войска перешли к обороне.
Оборонительная полоса укреплялась в течение месяца; хотя из-за большой протяженности фронта частям не удалось эшелонировать в глубину боевые порядки полков, были эшелонированы боевые порядки дивизий: два полка занимали рубеж, один стоял в резерве. Так, 212-я сд двумя полками вместе с 76-й огнеметной ротой, армейским саперным батальоном и армейским батальоном ПТР оборонялась на фронте Еськово, выс. 251.3, а один стрелковый полк находился в резерве в районе Тим. 45-я сд вместе с 602-м артполком РГК обороняла полосу на фронте Стародубцево, иск. Ришковка, и один стрелковый полк стоял в резерве в районе Колоде-зек. 62-я сд с 595-м лап и 119-м мп обороняла полосу Ришкова, выс. 254,7, и один стрелковый полк находился в резерве в районе Двоелучное. Второй армейский оборонительный рубеж занимали 6-я сд (в полосе Кшень, Каменная Гора), 111-я сбр (Расхо-вец), 141-я сбр (Куськино), 119-я сбр (вост. берег
р. Кшень); 14-я тбр занимала позиции в районе Ленинский, Горностаевка, южн. берег р. Расховец, 170-я тбр - в районе Куськино, Пузачи. Армия готовилась к обороне на трех оперативных направлениях: 1) Щигры - Мармыжи - Касторное; 2) Курск
- Тим - Касторное; 3) Курск - Тим - Старый Оскол. Фронт оборонительного рубежа составлял 128 км, глубина обороны - 48 км. По плану оборонительной операции 212-я сд с приданными частями должна была удерживать рубеж Тим - Становое -Черниковы дворы, 45-я и 62-я сд - рубеж Каменка
- Семица - Прилепы. Таким образом, оборона была сравнительно подготовленной, войска занимали укрепленные рубежи и были готовы к активным боевым действиям [28, л. 3-7, 54-54 об.].
Иначе складывалась ситуация на правом фланге 21-й армии, где оборонялась 8-я мсд НКВД. 9 мая из ее состава были выведены 4-й, 266-й и 274-й мсп (вместе с управлением дивизии; на основе этих частей формировалась 13-я мсд НКВД); в составе дивизии остались 6-й, 16-й и 266-й мсп, 10-й артполк и
8-й отдельный танковый батальон. Кроме того что, находясь в процессе переформирования, соединение было ослаблено, в дивизии было плохо со средствами связи [29, л. 36]. Резервы у правого крыла 21-й армии отсутствовали, так как были стянуты на левый фланг: соединения этого крыла, после отступления от Волчанска только к 16 июня закрепившиеся на новом рубеже, в соответствии с приказом штаба армии № 015/ОП от 28.6.1942 г. должны были снова наступать на Волчанск к восточному берегу Северского Донца (для наступления предназначались 301-я, 293-я, 76-я и 124-я сд при поддержке резервных 343-й сд, 4-го и 13-го тк) [30, л. 36-37]. Данная ситуация была лишь частью общей картины: у Юго-Западного фронта после провального окончания Харьковской наступательной операции резервов, особенно что касается стрелковых соединений, почти не было. В переговорах по прямому проводу 20 июня Сталин заявил Тимошенко, просившему подкреплений: «Если бы дивизии продавались на рынке, я бы купил для вас 5-6 дивизий, а их, к сожалению, не продают». В директиве ВГК № 170464 от 26.06.1942 г. военному совету ЮЗФ, где фронту было приказано во что бы то ни стало удерживать восточный берег Оскола и северный берег Северского Донца, небольшие подкрепления фигурировали, однако и здесь говорилось: «Стрелковых дивизий не можем дать, так как нет у нас готовых к бою» [27, с. 258, 264].
Дивизии на самом деле были, но они использовались для формирования резервных армий, три из которых - 3-я, 6-я и 5-я - предназначались для создания тылового оборонительного рубежа по р. Дон. Формирование и передислокация соединений и объединений требовали времени. Так, 28.05.1942 г. Ставкой была издана директива № 994032 о формировании 6-й резервной армии: сформирована она должна была быть к 10.06.1942 г., при этом 309-я сд перебрасывалась из Пензы в Россошь, 219-я сд -из Кирсанова в Бутурлиновку, 174-я сд - из Ста-робельска в Борисоглебск, 141-я сд - из Алатыря в Поворино, 232-я сд - из Арзамаса в Лиски. 7-го июня последовала новая директива (№ 170444), согласно которой 6-я РА по мере прибытия дивизий в районы сосредоточения должна была занять рубеж по восточному берегу Дона на фронте Воронеж - Новая Калитва с задачей «прочно прикрыть район Воронежа и железную дорогу Лиски - Поворино». В тот же день Ставкой ВГК были изданы еще две директивы: директивой № 170445 3-я резервная армия должна была сосредоточиться для занятия оборонительного рубежа на фронте Лев Толстой - Рамонь (севернее 6-й РА), а директивой № 170443 5-я РА сосредоточивалась для занятия рубежа по восточному берегу р. Дон на фронте Новая Калитва - (иск.) Ново-Григорьевская (южнее 6-й РА) [27, с. 221-222, 241-243].
20 июня резервные армии должны были представить в Генштаб свои планы обороны на утверждение Ставки. Однако события обернулись так, что в этот день Генеральному штабу и Ставке ВГК пришлось заниматься не планом обороны своих войск, а планом наступления войск противника. 19 июня в расположении 76-й сд 21-й армии ЮЗФ нашими войсками был сбит немецкий самолет связи (легкий Физилер Шторьх Fi 156), при этом пилот погиб при падении, а пассажир был убит при попытке скрыться. Как впоследствии выяснилось, пилотом был лейтенант Дехант, а пассажиром -майор Р. Рейхель, служивший начальником оперативного отдела штаба 23-й тд 40-го тк. Рейхель направлялся в штаб 8-го ак, но самолет потерял ориентировку и пересек линию фронта, в результате чего и был сбит. В руки советского командования попали секретные документы, в том числе директива командующего 40-го тк генерала кавалерии Георга Штумме с планом наступательной операции частей корпуса во взаимодействии с 8-м ак, 4-й танковой армией и 8-й венгерской армией; к директиве прилагалась карта со схематической обстановкой [31, с. 21-29]. Корпус должен был прорвать советскую оборону между реками Волчья и Неже-голь, стремительным ударом захватить переправы на р. Оскол на участке Волоконовка - Новый Оскол и развернуться фронтом на запад в направлении Старый Оскол, чтобы лишить войска противника возможности отойти за реку на восток.
Взаимодействие с другими соединения планировалось следующим образом: «Соседи - 4-я танковая армия, двигаясь главными силами из района Курск в направлении Воронеж, одной группой захватывает Старый Оскол. Там 40-й танковый корпус должен с ней сомкнуть кольцо. 8-й ак наступает левее 40-го танкового корпуса, очищая от противника леса на северном берегу р. Нежеголь и продвигаясь далее в северо-восточном направлении. Одна венгерская армия, наступая на юг или юго-восток, будет очищать местность от окруженных частей противника» [32, л. 31-33]. Данные были переданы в штаб Юго-Западного направления, Генштаб и Ставку; Сталин вместе с и.о. начальника Генерального штаба генерал-полковником А.М. Василевским связался с Тимошенко, который заверил, что «перехваченные документы с планами действий противника не вызывают сомнений» [27, с. 257]. Ставка незамедлительно начала принимать меры: в тот же день 20 июня были изданы директивы, согласно которым в распоряжение Юго-Западного и Брянского фронтов было отправлено по две танковых бригады (91-я и 159-я тбр - на ЮЗФ, 115-я и 116-я тбр - на БФ); 25 июня в состав Брянского фронта был передан 17-й тк, сосредоточивавшийся в Воронеже, 26 июня с Северо-Кавказского фронта был снят и направлен в распоряжение Юго-Западного фронта 14-й тк. Кроме того, было принято решение упредить противника, начав нанесение массированных авиаударов по районам его сосредоточения силами фронтовой и дальнебомбардировочной авиации (для ударов на фронте перед стыком 21-й и 28й армий выделялось 50 самолетов ДБА, для ударов по району Курска - 100) [27, с. 255, 256, 258, 263264]. Бомбардировки начались через несколько дней; в воздух поднималось по 200-300 машин [28, л. 6]. Их интенсивность была отмечена немецкой стороной: в отчете штаба 2-й армии от 25.06.1942 г. говорилось, что «деятельность авиации противника в районах сосредоточения армейской группы увеличивается. Сегодня совершили налет 259 самолетов противника» [20, с. 169-170].
Исчезновение майора Рейхеля стало неприятным сюрпризом для германского командования - как отмечалось в поступившем 23 июня из группы армий «Юг» в штаб 2-й армии донесении, «находящиеся при майоре Р. Рейхеле секретные документы, по-видимому, попали в руки противника. Среди секретных документов находился приказ на проведение операции “Блау” с указанием задачи 4-й танковой армии и королевской венгерской армии. Возможно, что противник ориентирован в предполагаемых наступательных операциях армейской группы “Вейхс”» [20, с. 169]. Последнее лишь частично соответствовало истине: как вспоминал позднее начальник штаба Брянского фронта генерал-майор М.И. Казаков, «к сожалению, несмотря на большую интенсивность работы всех видов нашей разведки - и авиационной, и наземной, - нам не удалось установить тогда с достаточной точностью состав сил противника. Мы знали лишь общее количество его дивизий, предназначенных для наступления в первом эшелоне (с ошибкой в две-три единицы), но не имели данных о танковых и моторизованных соединениях» [23, с. 97]. Штаб 40-й армии, начиная с 24 июня, отмечал концентрацию войск противника в районе Щигры, что позволяло сделать вывод о готовящемся наступлении, однако, по словам заместителя командующего армией генерал-майора Ф.Ф. Жмаченко, «сила группировки противника вскрыта не была. Ни в штабе армии, тем паче ни в штабе фронта по-настоящему не разгадали главного, что из района Щигров будет наноситься удар большой мощности и что он будет наноситься огромной массой танков и авиации» [28, л. 6; 33, с. 347].
Между тем до дня «B» оставалось все меньше: изначально планировалось, что операция «Блау I»
начнется 15 июня, но из-за состояния дорог войска не успевали с сосредоточением, поэтому срок начала наступления неоднократно переносился, однако и 20, и 23 июня вместо шифра «Франция» штаб армейской группы «Вейхс» получал шифр «Аравия» (первым было закодировано продолжение движения, вторым - остановка). 24 июня из группы армий «Юг» в штаб 2-й армии пришло сообщение о том, что начало наступления состоится на рассвете
27 июня; но 26 июня в районе сосредоточения прошли ливневые дожди с грозами, дороги и взлетнопосадочные полосы размокли, так что начало операции было перенесено еще на день. Наконец, в 17.00 27 июня в штаб Вейхса поступил приказ с шифром «Дунай»: через одиннадцать часов, в 2.00
28 июня 1942 г., начиналась операция «Блау» -вторая попытка гитлеровской Германии и ее сателлитов сломить сопротивление Красной армии и волю к победе советского народа [20, с. 165, 167, 169, 170; 25, с. 174-175].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Урланис, Б.Ц. История военных потерь [Текст] / Б.Ц. Урланис. - СПб. : Полигон, 1998. - 558 с.
2. Гальдер, Ф. Военный дневник. Ежедневные записи начальника Генерального штаба Сухопутных войск 1939-1942 гг. Т. III. От начала восточной кампании до наступления на Сталинград (22.06.1941 -24.09.1942) [Электронный ресурс] / Ф. Гальдер. - М. : Воениздат, 1971. - 367 с. -(http://militera.lib.ru/db/halder/1942_01.html).
3. Гальдер, Ф. Указ. соч. [Электронный ресурс]. - (http://militera.lib.ru/db/halder/1942_03.html).
4. Робертс, Дж. Победа под Сталинградом. Битва, которая изменила историю [Текст] / Дж. Робертс. - М. :
Едиториал УРСС, 2003. - 176 с.
5. Гальдер, Ф. Указ. соч. [Электронный ресурс]. - (http://militera.lib.ru/db/halder/1941_12.html).
6. Кейтель, В. 12 ступенек на эшафот... [Текст] / В. Кейтель. - Ростов н/Д : Феникс, 2000. - 416 с.
7. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (далее - ЦАМО). Ф. 500. Оп. 12462. Д. 466.
8. Szabo, P. A keleti hadszi es Magyarorszag 1941-1943 / P. Szabo, N. Szamveber. - Puedro Kiado, 2001. - Old. 155.
9. Szabo, P. A keleti hadszinter es Magyarorsag. 1941-1943 / P. Szabo, N. Szamveber. - Budapest : Puedlo Kia-do, 2002.
10. ЦАМО. Ф. 500. Оп. 4. Д. 55.
11. Филоненко, С.И. Война на Воронежской земле 1942-1943 гг. в документах Красной армии, вермахта и войск сателлитов. В 5 т. Т. 3 [Текст] / С.И. Филоненко. - Воронеж : Кварта, 2016. - 413 с.
12. Унгвари, К. Венгерские оккупационные войска на Украине в 1941-1942 гг. [Текст] / К. Унгвари // Клио. - 2011. - № 2.
13. Дашичев, В.И. Банкротство стратегии германского фашизма: Ист. очерки. Документы и материалы. Т. 2. Агрессия против СССР. Падение «Третьей Империи». 1941-1945 гг. [Текст] / В.И. Дашичев. - М. : Наука, 1973. - 664 с.
14. Шретер, Х. Сталинград. Великая битва глазами военного корреспондента. 1942-1943 [Электронный ресурс] / Х. Шретер. - М. : Центрполиграф, 2008. - 320 с. -
(http://militera.lib.ru/memo/german/schroter_h01/text.html#t3).
15. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг. Т. 2. Отражение советским народом вероломного нападения фашистской Германии на СССР. Создание условий для коренного перелома в войне (июнь 1941 г. - ноябрь 1942 г.) [Текст]. - М. : Воениздат, 1961. - 682 c.
16. Самсонов, А.М. Сталинградская битва [Текст] / А.М. Самсонов. - М. : Наука, 1989. - 627 с.
17. Дёрр, Г. Поход на Сталинград [Текст] / Г. Дёрр. - М. : Воениздат, 1957. - 140 с.
18. ЦАМО. Ф. 335. Оп. 5113. Д. 121.
19. Филоненко, С.И. От Прута и Днестра до Дона и Волги: Разгром армий сателлитов фашистской Германии под Сталинградом и Воронежем (ноябрь 1942 года - февраль 1943 года) [Текст] / С.И. Филоненко. - Воронеж, 1999. - 258 с.
20. Филоненко, С.И. Сражения на Воронежской земле глазами русских и оккупантов [Текст] / С.И. Филонен-ко. - Воронеж, 2013. - 512 с.
21. Филоненко, С.И. Война на Воронежской земле 1942-1943 гг. в документах Красной армии, вермахта и войск сателлитов : в 5 т. [Текст] / С.И. Филоненко. - Воронеж : Кварта, 2015. - Т. 2. - 413 с.
22. Еременко, А.И. Сталинград [Текст] / А.И. Еременко. - М. : Воениздат, 1961. - 504 с.
23. Казаков, М.И. Над картой былых сражений [Текст] / М.И. Казаков. - М. : Воениздат, 1971. - 288 с.
24. ЦАМО. Ф. 500. Оп. 4. Д. 61.
25. Филоненко, С.И. Война на Воронежской земле 1942-1943 гг. в документах Красной армии, вермахта и войск сателлитов : в 5 т. [Текст] / С.И. Филоненко. - Воронеж : Кварта, 2014. - Т. 1. - 496 с.
26. Операции Советских вооруженных сил в Великой Отечественной войне 1941-1945 (военно-исторический очерк : в 4-х т. Т. 1. Операции советских вооруженных сил в период отражения нападения фашистской Германии на СССР (22 июня 1941 г. - 18 ноября 1942 г. [Текст]. - М. : Воениздат, 1958. - 608 с.
27. Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК: документы и материалы. 1942 год. Т. 16 (5-2) [Текст]. - М. : ТЕРРА, 1996. - 624 с.
28. ЦАМО. Ф. 203. Оп. 2843. Д. 519.
29. ЦАМО. Ф. 15. Оп. 11600. Д. 1261.
30. ЦАМО. Ф. 335. Оп. 5113. Д. 43.
31. Пермяков, И.А. История боевых действий частей Красной армии за Воронеж в ходе Воронежско-Ворошиловградской стратегической оборонительной операции 1942 г. : дис. ... канд. ист. наук [Текст] / И.А. Пермяков. - Воронеж, 2012.
32. ЦАМО. Ф. 15. Оп. 11600. Д. 1352.
33. Филоненко, С.И. Острогожско-Россошанская операция - «Сталинград на Верхнем Дону» [Текст] / С.И. Филоненко, А.С. Филоненко. - Воронеж : Кварта, 2005. - 416 с.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧКАЛОВСКОГО (ОРЕНБУРГСКОГО) ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ КИНОФИКАЦИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой всеобщей истории и методики преподавания истории и обществознания,
Оренбургский государственный педагогический университет
АННОТАЦИЯ. Рассматриваются трудности и сложности в работе Чкаловского областного управления кинофикации в годы Великой Отечественной войны, связанные с сокращением киносети и её материальной базы (острый недостаток аппаратуры, оборудования, горючего и электроэнергии) вплоть до 1944 года, с нехваткой квалифицированных кадров из-за мобилизации киномехаников в армию, с отсутствием условий для работы киномехаников-передвижников (питание, помещение), с оказанием помощи освобожденным районам и др. В слабом техническом состоянии находились и сами помещения кинотеатров. Для решения проблемы кадров наряду с централизованным обучением работников кинофикации в крупных городах (Воронеж, Саратов, Чкалов) в годы, войны в регионе большое внимание уделялось и такой форме подготовке кадров, как ученичество. Показаны энтузиасты своего дела среди киномехаников области. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чкаловское областное управление кинофикации, Великая Отечественная война, киноустановки, киносеть, кинопередвижки.
Dr. Hist. Sci., Professor, Head of the Department of World History and Methods of Teaching History and Social Studies,
Orenburg State Pedagogical University
ACTIVITIES OF CHKALOV (ORENBURG) PROVINCIAL CINEFICATION DEPARTMENT IN THE GREAT PATRIOTIC WAR
ABSTRACT. The article reveals challenges and complexities in the work of Chkalov Provincial Cinefication Department in the period of the Great Patriotic War, associated with the reduction of cinema infrastructure and its material base (acute lack of technical devices, equipment, fuel and electric power) until 1944, with shortage of skilled staff after military mobilisation for cinema workers, and poor working conditions of mobile cinema projectionists (food service, housing), with providing help to freed territories etc. Cinema buildings themselves were in disadvantageous technical condition. For solving the issue of human resource capacity, in addition to centralised training for cinema workers in large cities (Voronezh, Saratov, Chkalov), in the period of war attention was paid to such form of staff training, as discipleship. The article shows also the enthusiasts among projectionists in the province.
KEY WORDS: Chkalov Provincial Cinefication Department, Great Patriotic War, cinema projectors, cinema infrastructure, mobile cinema installations.
В военные годы, наряду с производством и выпуском на экраны документальных и художественных фильмов, одной из важнейших задач в области развития киноискусства в тыловых районах страны было сохранение, а по возможности и расширение киносети и ее материальной базы. Первоначально киносеть подвергалась резкому сокращению во всех областях и автономных республиках Уральского региона. Это объяснялось тем, что многие помещения стационарных кинотеатров в городах и районных центрах были заняты под военные нужды. В них развертывались госпитали, цеха эвакуированных промышленных предприятий, эвакопункты, мобилизационные центры и т.п. Значительно уменьшилось и число кинопередвижек, так как большинство автомашин, используемых до войны в целях кинообслуживания населения, было отправлено в действующую армию.
К началу 1943 г. общая численность стационарных и передвижных киноустановок в Уральском регионе по сравнению с предвоенным периодом уменьшилась на 25,6% (с 1750 в 1941 г. до 1302 в 1943 г.), в Чкаловской области - на 57,5% (с 362 в 1941 г. до 154 в 1943 г.). Такое резкое свертывание киносети наблюдалось в регионе еще только в Башкирии - на 68%. С 1944 г. начинается рост киносети в регионе, и к 1945 г. она составляла 1650, или 94,2% к предвоенному уровню. В отличие от всего уральского региона положение в Чкаловской облас-
Информация для связи с автором: hisamutdinova@inbox.ru
ти оказалось хуже, и численность киноустановок составила 185, или 51,1% от довоенного уровня [1,
с. 239].
Если сравнить численность действующих киноустановок 1940 и 1941 гг., видно, что начавшаяся война с фашистской Германией помешала осуществлению роста звуковой киносети области (на первое января 1942 г. насчитывалось 111 звуковых кинопередвижек и 63 колхозных кинотеатра) и намечавшемуся по плану поступлению звуковой аппаратуры от Главка, освоению средств, намеченных планом. Кроме того, во второй половине 1941 г., согласно решению президиума Исполкома Чкалов-ского облсовета, звуковая передвижная аппаратура была переведена в госпитали и часть аппаратуры и электростанции передана воинским частям.
В условиях войны киносеть области сократилась с 362 до 138 в 1942 г. (т.е. на 62%), хотя по плану она должна была состоять из 238 единиц. Зрителей в течение года было обслужено 7915,65 тысяч человек, что на 12% больше, чем предусмотрено по плану. План был выполнен на 124%. Чистой прибыли дали государству 3,5 миллионов рублей, а по плану предусматривалось 600 тысяч рублей. В плане 1942 г. намечался также ввод звуковых кинопередвижек [2, л. 28].
Большим недостатком в работе Чкаловского областного управления кинофикации в 1942 г., как свидетельствуют архивные документы, было то, что киноаппаратура в районах распределялась не в зависимости от количества населения и населенных пунктов района, а от работоспособности начальника Межрайонного отделения кинофикации. Это приводило к тому, что в одних районах кинообслуживанием были охвачены все колхозы (Сакмарский, Ак-булакский), а в других районах в течение года не было ни одного сеанса (Белозерский) [2, л. 15].
Вплоть до 1944 г. происходит уменьшение числа киноустановок. В 1943 г., по сравнению с 1942 г., число киноустановок сократилось еще на 15 и фактически работало 123 киноустановки, хотя по плану киносеть области должна была состоять из 200 киноустановок, т.е. 62% к годовому плану.
Невыполнение плана развития киносети объясняется тем, что по распоряжению Главного управления кинофикации от 11 августа 1943 г. снята из действующей киносети и отправлена в освобожденные от немецких оккупантов области 31 киноустановка, в том числе 17 немых и 14 звуковых [2, л. 29]. Кроме того, бездействовали 46 киноустановок по следующим причинам: из-за отсутствия аппаратуры, запчастей и электростанций - 32, отсутствия механиков - 7, внепланового ремонта - 7.
На селе в период весенне-посевной кампании было обслужено 894 сельских совета, из них 421 сельский совет - по два раза и более. Было дано 21124 сеанса и обслужено 92812 зрителей. Лучшими по кинообслуживанию трудящихся являлись Сакмарский и Бузулукский районы [2, л. 38].
В 1944 г. по плану киносеть области должна была состоять из 189 киноустановок, в действительности же насчитывалось 148 киноустановок. Но если сравнить с предыдущим годом, то в 1944 г. численность киноустановок увеличилась на 25, однако в течение года практически работало 124 киноустановки [2, л. 29]. Киноустановки не работали из-за отсутствия механиков (4 немые передвижки), из-за отсутствия запчастей и ремонта (11 звуковых передвижек), из-за отсутствия электроэнергии (2 звуковые передвижки) [2, л. 81].
За весь 1944 г. всей киноаппаратурой области обслужено было 4602721 человек, вместо 5357720 человек по плану. При этом по городу зрителей было обслужено на 88 тысяч больше, а сельское население на 843 тысяч меньше, чем предполагалось по плану. План валового сбора денежных средств за этот период времени выполнен на 91% [2, л. 30].
Для улучшения работы кино на село выезжали кинопередвижки. Так, в 1944 г. в целях реализации решений XVI пленума обкома ВКП (б) и XII сессии облисполкома Чкаловское областное управление кинофикации на период весеннего сева выделило 22 кинопередвижки, из них 8 звуковых, которые были оборудованы специальными установками для демонстрации кинокартин днем. Каждая из них снабжалась радиоустановкой, патефоном с пластинками, материалами «Окно ТАСС» [2, л. 21]. Такие звуковые кинопередвижки работали в Покровском районе и обслуживали Новосергиевский, Переволоцкий и Мустаевский районы. Шарлыкская агиткинопередвижка обслуживала Матвеевский, Пономаревский, Мордово-Боклинский и Алексеев-ский районы, Чкаловская агиткинопередвижка -Сакмарский, Октябрьский, Троицкий и Екатери-новский районы; Саракташская - Гавриловский район; Бузулукская - Грачевский, Державинский и Курманаевский районы; Адамовская - Кваркенский район; Орская - Домбаровский, Новоорский, Ново-покровский и Халиловский районы [3, с. 31].
Во время весеннего сева 1944 г. кинопередвижки обслужили 28 районов области из 50, 148 сельских советов. Показаны были следующие фильмы: «Она защищает Родину», «Непобедимые», «Суд идет», «Секретарь райкома», «Фронт», «Котовский». Особой популярностью у зрителей пользовались фильмы «Секретарь райкома» и «Она защищает Родину» [2, л. 81].
В 1945 г. работало 128 киноустановок, что на 4 больше, чем в предыдущем году. Улучшилась работа в части обслуживания населения в районных центрах. Сравнивая выполнение плана по сеансам за 1940 и за 1944 гг., следует отметить, что план 1944 г., по сравнению с 1940 г., был выполнен на 2% больше, хотя работа Чкаловского областного управления кинофикации в 1940 г. протекала в мирных условиях и при наличии собственного автопарка в количестве 42 автомашин и собственного гужевого транспорта в количестве 12 лошадей, а в 1944 г. в обстановке военного времени и при наличии всего 5 лошадей. План по зрителям в 1940 г. был выполнен на 71% и по валовому сбору на 71%, в 1941 г. - соответственно 57% и 76%, в 1942 г. -113% и 130%, в 1943 г. - 76% и 84%, в 1944 г. -87% и 90% [2, л. 44]. Сравнивая выполнение плана по посещаемости зрителей и валовому сбору в 1940 и 1944 гг., можно заметить, что в 1940 г. обслужено 3897000 человек, а в 1944 г. - 4602721 человек,
т.е. на 705721 человек больше.
Перед войной в областном центре функционировало три кинотеатра: «Молот» (имел 2 зала), «Октябрь» и «Буревестник», последний в самом начале войны был закрыт [4, л. 13].
В военный период поменялся репертуар кинотеатров города Чкалова. Он отражал задачи, поставленные военными условиями. Особое внимание уделялось показу боевых кинорепортажей, киножурналов, сборников кинохроники, воспроизводивших на экранах героические эпизоды из жизни фронта и тыла. Главная цель проведения такой жесткой репертуарной политики заключалось в том, чтобы в полной мере использовать агитационно-пропагандистские возможности кино в решении основной задачи - мобилизации населения на отпор внешнему врагу [5, с. 522-532].
Летом 1941 г. на Чкаловских экранах начался показ первых номеров киножурналов. Пресса подробно информировала жителей города об их содержании. Так, 31 августа 1941 г. «Чкаловская коммуна» рассказала о киносборнике №2, показывающем борьбу белорусов с ненавистным врагом, зверства фашистов в Югославии. Демонстрация фильмов проходила и в парках города.
В сентябре 1941 г. областная газета писала о киносборниках: «...они являются... лучшими рассказчиками о героической борьбе красных воинов с гитлеровскими бандитами и пользуются успехом у нашего зрителя. Здесь, глубоко в тылу, мы видим кусочек фронта» [6, л. 27].
С этого времени в кинотеатрах города стали регулярно демонстрироваться киножурналы, отображавшие события на фронтах. Во время показа документальных фильмов кинозалы были переполнены [7]. Люди ждали каждого нового выпуска так же, как и очередного сообщения Советского информбюро. Их появление было очень важно, они были вызовом тем катастрофическим обстоятельствам, в которых оказалась наша страна, они внушали надежду, что мы не покоримся, переломим ход войны.
В 1942 г. на экранах выходит фильм «В тылу у врага». Фильм был снят в 1941 г. режиссером Евгением Шнейдером. События, показанные в фильме, происходят в 1939-1940 гг. во время советскофинской войны. Фильм очень впечатлил зрителей города Чкалова, после его просмотра выходило много отзывов. Один из таких отзывов написал житель города Чкалова А. Гринберг в областной газете «Чкаловская коммуна»: «Автор сценария и режиссер фильма сумели сочетать волнующую тему советского патриотизма с увлекательной разработкой простого сюжета картины. Фильм "В тылу у врага" особое значение и актуальность приобретает в наши дни, дни героической Отечественной войны советского народа с озверелыми фашистскими бандитами, раскрывая перед зрителями замечательные качества наших бойцов. Эта картина воспитывает в зрителях чувство подлинного и глубокого советского патриотизма» [8].
Огромную мобилизующую роль сыграл документальный фильм «Парад наших войск на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года». Чкаловцы семьями, целыми трудовыми коллективами ходили смотреть этот фильм. На страницах областной газеты «Чкаловская коммуна» жители города делились своими впечатлениями от просмотренного фильма. Общий настрой выразил в печати начальник сортового управления областного земельного отдела Соболева: «Зритель покидает зал с чувством уверенности в победе, с желанием еще больше работать на благо Родины» [9; 10; 11].
На экраны кинотеатров города Чкалова в начале 1942 г. вышел первый полнометражный документальный фильм о нашей крупной победе, воодушевлявший армию и тыл, внушавший людям мужество, бодрость духа, - «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой» (режиссеров Л. Варламова и И. Копа-лина). Фильм рассказывал о наступательной операции советских войск под Москвой в декабре 1941 - январе 1942 гг., сыгравшей огромную роль в ходе всей Второй мировой войны.
В 1943 г. в кинотеатре «Молот» шли следующие картины: Сборник №11, Сборник №12, «Александр Пархоменко», «День войны», «Как закалялась сталь», «Трактористы», «Возвращение Максима», «Доктор Калюжный», «Закройщик из Торжка», «Большой вальс», «Бесприданница», «Чапаев», «Путь корабля». Наибольшим успехом у зрителей Чкалова пользовались картины: Сборники №11 и №12, «Александр Пархоменко», «Чапаев», «Как закалялась сталь» [12, л. 36]. В другом кинотеатре «Октябрь» с 4 по 10 сентября демонстрировались такие фильмы, как «Свинарка и пастух», с 11 по 12 сентября - «Подкидыш», с 14 по 21 сентября -«Макар Нечай», с 22 сентября по 1 октября -«Учитель», с 1 октября по 1 ноября - «Мелодии вальса», с 1 ноября по 8 ноября - «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году», с 9 ноября по 10 декабря - «Парень из нашего города» [12, л. 36].
Особым интересом у чкаловских зрителей в 1944 г. пользовались следующие фильмы: «Секретарь райкома», который посмотрели 261 412 человек, «Радуга» - 165 982 человек, «Во имя Родины» - 61 016 человек, «Она защищает Родину» - 56 022 человек, «Непобедимые» - 36 480 человек [6, л. 27].
«Секретарь райкома» - первый полнометражный художественный фильм о войне, созданный режиссером И.А. Пырьевым в 1942 г. С большой агитационной силой и художественным мастерством кинолента раскрывала народные истоки образа партизанского вожака, поднявшего людей на смертельную схватку с врагом. Этот фильм, как и другие лучшие произведения военной поры, отвечал настроениям зрителей, жаждущих увидеть поверженного врага, воочию ощутить героику борьбы народных мстителей. Фильм «Секретарь райкома» был популярным не только в военное время, но и на протяжении многих лет пользовался успехом.
Еще одним значительным кинопроизведением этих лет явился фильм «Радуга», поставленный в 1943 г. режиссером М. Донским по одноименной повести В. Василевской. Повесть была написана на первом этапе войны, когда во временно оккупированных районах только складывались силы сопротивления фашизму. В повести показана жизнь украинского села под властью оккупантов. Ее герои -люди, неспособные к активной вооруженной борьбе: женщины, старики и дети. Они проявляют душевную стойкость, сплоченность, ненавидят фашистов и ждут Красную армию.
В январе 1943 г. на экраны вышел фильм «Непобедимые», поставленный С. Герасимовым и М. Калатозовым. В картине отображены мысли и чувства ленинградцев в осенние месяцы 1941 г. «Непобедимые» - фильм о повседневном будничном героизме ленинградцев в первые месяцы войны. Эти люди непобедимые, ведь они делают все, что в их силах, чтобы защитить родную землю.
Авторы фильма стремились показать, как меняется психология людей в обстоятельствах, диктуемых историей, как война наносит трудноизлечимые травмы не только телам, но и душам людей. И поэтому не зря этот фильм вызвал большой интерес со стороны зрителей города Чкалова и Чкаловской области. Как писал известный советский кинодраматург и кинокритик Ю. Ханютин: «Картина "Непобедимые" осталось в нашем кино интересным и точным документом времени» [13, с. 319].
Демонстрировались в Чкалове и Чкаловской области также фильмы «Богатая невеста», «В шесть часов вечера после войны», «Малахов курган», «Сердца четырех», «Сын Таджикистана», «Северная звезда», «Технический уход за тракторами» [2, л. 20].
В январе 1944 года в городе Чкалов демонстрировался документальный фильм «Урал кует Победу», который также пользовался большой популярностью, т.к. фильм рассказывал о напряженном труде рабочих чкаловских заводов и фабрик в годы войны. Съемки фильма производили операторы Н. Степанов и О. Рейзман [10].
Все эти фильмы оказывали неизгладимое впечатление на зрителей, что способствовало еще большему стремлению помочь своими действиями ратному делу всего народа.
Однако фильмы довольно-таки мало рекламировались, это было слабым местом в работе Чкалов-ского областного управления кинофикации, особенно на селе, т.к. реклама ограничивалась публикацией в газете и объявлением по радио с одновременной выставкой на киноустановки соответствующего рекламного материала и фото. Средства, отпускаемые на рекламу, киноустановкой использовались на 50%.
Цены на билеты назначал Исполнительный комитет областного совета. Так, по городским киноустановкам эта цена составляла 3 руб. 89 коп., по местным киноустановкам - 3 руб. 25 коп., по хроникальным - 2 руб., по звуковым передвижкам - 4 руб., по детскому зрителю - 1 руб. 50 коп.
По сельской местности: средняя цена посещения составляла 2 руб. 40 коп, по колхозным стационарам - 2 руб. 10 коп., по детскому зрителю - 75 коп. [14, л. 2]. Эти цены были вполне реальными, а для колхозников оплачивал билеты в основном колхоз.
Одной из главных проблем работы кинотеатров и киноустановок в условиях начавшейся войны являлась большая текучесть кадров киномехаников-передвижников. Это происходило в результате того, что весь старый состав киномехаников был призван в армию, а зрителей в основном обслуживала молодежь допризывного возраста, иногда подростки 1415 лет и женщины. В приказе по Оренбургскому областному управлению кинофикации от 23 сентября 1941 г. говорилось: «Комплектовать кадрами киномехаников и мотористов все киноустановки главным образом за счет привлечения к этой работе женщин» [5, л. 20].
Для решения кадровой проблемы будущих киномехаников начали отправлять на курсы. Так, в 1941 г. были организованы центральные курсы киномехаников звукового кино в городах Чкалов, Воронеж и Саратов [15, л. 196]. В июне 1941 г. центральные курсы киномехаников звукового кино в городе Воронеж окончили 9 человек из Чкаловской области, в июле - 53 человека, в августе - 5 человек, в сентябре - 20 человек, в ноябре - 24 человек, в декабре - 24 человека [16, л. 129]. Всего за вторую половину 1941 г. было подготовлено 135 киномехаников. Это дало возможность укомплектовать районные и межрайонные Управления кинофикации Чкаловской области.
Наряду с централизованным обучением работников кинофикации, в годы войны в Уральском регионе большое распространение получила и такая форма подготовки кадров, как ученичество. К опытному специалисту прикреплялся ученик, который должен был освоить все премудрости постигаемой профессии в ходе практической работы. После того, как он овладевал основными навыками, решением специальной аттестационной комиссии ему присваивалась квалификация помощника киномеханика. Эта форма подготовки использовалась во всех областях и республиках Южного Урала, но наибольшее распространение имела в Чкаловской
области [1, с. 241]. На 1942 г. запланировали подготовить 125 учеников, 62 механика и 18 техников. Иногда учениками являлись юноши с 5-6-классным образованием, и они не могли вырасти до уровня механика. Но, несмотря на это, в 1942 г. было подготовлено 193 киномеханика, в т.ч. посредством курсов - 45 человек, путем индивидуального обучения - 67, инвалидов Отечественной войны -
81 человек. В феврале 1942 г. центральные курсы киномехаников звукового кино в городе Воронеж окончили 24 человека, в марте - 24 человека, в апреле - 36 человек, в июне - 24 человека. Всего за этот период было подготовлено 108 киномехаников. В июле путем ученичества было подготовлено 12 звуковиков и 12 киномехаников немого кино. В августе курсы звукового кино в Свердловске окончили 42 человека. Всего за 1942 г. центральные курсы окончили 135 человек [15, л. 54], хотя подсчет имеющихся архивных данных показывает, что центральные курсы окончили 150 человек. В большей степени нехватка киномехаников ощущалась в районных центрах. Там не хватало киномехаников для звуковой кинопередвижки (16 человек) и для немой кинопередвижки (29 человек) [2, л. 53].
К 1943 г. было подготовлено 43 человека, из них киномехаников немого кино - 14 человек, звукового кино - 12 человек. За период пять месяцев (январь-май) были проведены курсы киномехаников в Бузулуке (20 человек), в Чкалове (15 человек) [6, л. 21]. Но, несмотря на это, с кадрами дело в Областном управлении кинофикации обстояло очень тяжело, т.к. в течение войны продолжалась мобилизация киномехаников на фронт. Так, в 1943 г. кинопрокату недоставало 37 киномехаников, поэтому в этом же году на учебу было направлено: на пятимесячные курсы звукового кино в город Свердловск - 5 человек, на курсы киномехаников в город Алма-Ата - 5 человек [6, л. 17].
Положение к 1944 г. постепенно меняется. Всего в этом году было выпущено пять групп киномехаников: 2 группы звукового кино и 3 группы немого кино. Продолжительность обучения звуковиков составляла три месяца, а продолжительность обучения киномехаников немого кино - один месяц. Всего за 1944 г. был выпущен 181 человек, из них киномехаников звукового кино - 117 человек, а киномехаников немого кино - 64 человека, среди них 35% составляли женщины [2, л. 71]. К этому времени киномехаников со стажем работы 1 год было 109 человек, 2 года - 59 человек, 5 лет - 28 человек, 10 лет - 12 человек. Киномеханики по категориям распределялись следующим образом: киномеханики 1 категории - 10 человек, киномеханики 2 категории - 139 человек, помощники - 59 человек, всего - 208 человек. Механиков с правами насчитывалось 187 человек, механиков без прав -21 человек [2, л. 72].
Как отмечается в архивных документах, к подбору людей на должность начальников районных отделов кинофикации райкомы партии подходили недостаточно серьезно и внимательно. В трех районах (Мордово-Боклинском, Секретарском, Екатеринбургском) долгое время не были подобраны начальники районных отделов кинофикации и не были организованы отделы кинофикации.
Райкомы и райисполкомы недостаточно помогали людям, выдвинутым на эту работу, а зачастую не обращали внимания, чем они занимаются. Примером такого пренебрежительного отношения к работе служил Зиянчуринский район. Там выдвинули на работу начальника отдела киномеханика Игнатова А.В., который, проработав пять месяцев, ушел в армию и растратил 11 тыс. рублей. На его место райкомом партии был выдвинут Пеньков. Но из-за систематического пьянства он был уволен. Фактически из-за халатности райкома партии отдел кинофикации Зиянчуринского района долгое время осуществлял работу без начальника.
В Кувандыке выдвинутый на работу киномеханик Носырев был предоставлен сам себе. По существу, вся киноработа райкома была отдана ему на откуп. Маршруты кинопередвижек райкомом партии утверждались только формально. Секретарь райкома партии Смирнов вынужден был сознаться, что райком партии киноработой не интересовался и не занимался. Еще одним из наихудших районов области по кинообслуживанию населения был Ха-лиловский, в котором имеющиеся в то время 2 кинопередвижки (и звуковая, и немая) не работали из-за отсутствия кадров [17, л. 49]. Такое же удручающее положение с киноработой обстояло в Павловском, Андреевском, Новоорском, Грачевском, Сок-Кармалинском, Октябрьском и других районах [там же]. Таким образом, киноработа в этих районах находилась на низком уровне, так как ни райкомы партии, ни райисполкомы не интересовались и не занимались киноработой.
Существовали и другие трудности: отсутствие транспорта, помещений для демонстрации фильмов, низкое качество фильмов, плохое снабжение хлебом киномехаников и отсутствие спецодежды. Все эти трудности заставляли иногда бросать работу киномеханика-передвижника.
Но, несмотря на все эти трудности и сложности, выделялись ответственные и добросовестные киномеханики, энтузиасты своего дела, которые перевыполняли свой план. Так, в марте 1943 г. киномеханик немого кино Чкаловского района Болодурин обслужил 4740 зрителей и собрал средства на сумму 4200 рублей, тем самым план по обслуживанию зрителей и по валовому сбору перевыполнил на 60%, киномеханик Бугурусланского района Варме-нев - обслужил, соответственно, свыше 5000 зрителей, собрал средства на сумму 4900 рублей, перевыполнил план на 55% [18, л. 17]. Киномеханик немого кино, инвалид Великой Отечественной войны Сильверстов в Бузулукском госпитале выполнил мартовский план по обслуживанию трудящихся Бузулукского района на 57%. Кроме Сильверстова, в Бузулуке особым уважением пользовался киномеханик Акимов, стаж работы которого составлял 12 лет. В период посевной и уборочной ежемесячно давал по 40-45 киносеансов, притом перед каждым сеансом организовывал читку сообщения Совинформбюро и по ходу фильма читал надписи и объяснял колхозникам содержание картин [17, л. 50].
Некоторые киномеханики принимали письменные обязательства. Одним из них был киномеханик Чкаловского межрайонного отдела кинофикации Шумский А.Г., который вызывал на социалистическое соревнование киномехаников Чкаловской области за лучшее кинообслуживание сельского населения во время подготовки и проведения весеннего сева 1944 г. Он взял на себя следующие обязательства: образцово обслуживать в период подготовки и проведения весенне-посевной кампании колхозы, согласно утвержденным маршрутным планам, не менее двадцати пяти колхозов в месяц, с охватом количества обслуживания зрителей на вечерних сеансах не менее семь тысяч человек; организовывать отдельные киносеансы с дневной проекцией непосредственно в полевых тракторных бригадах, на полевых станах днем во время обеденных перерывов; все киносеансы провести качественно с хорошей проекцией и звучанием и не иметь ни одного срыва сеансов по техническим причинам; организовать предсеансовую политико-массовую работу (лекции, доклады, читки сводок Совинформбюро); выполнить месячный финансовый план на 200% [19, л. 64].
Благодаря таким добросовестным и старательным киномеханикам их районы были лучшими на соревнованиях. Так, в 1943 г. за перевыполнение плана и по количеству посещения зрителя, и по валовому сбору первое место завоевало Шарлыкское межрайонное отделение кинофикации, второе место - Чкаловское, третье место - Бузулукское межрайонное отделение кинофикации.
Шарлыкское межрайонное отделение кинофикации выполнило план работы на 100%. За отличную работу по обслуживанию зрителей, выполнение плана и за хорошую политико-массовую работу объявлялась благодарность всему коллективу Шар-лыкского межрайонного отделения кинофикации и предоставлялась возможность оставить переходящее Красное знамя областного управления кинофикации. Начальника Шарлыкского межрайонного отделения кинофикации Захлебина премировали деньгами в размере 1000 рублей, а коллектив - месячным окладом. Объявлялась также благодарность начальникам Чкаловского и Бузулукского межрайонных отделений кинофикации, а также коллективам этих районов.
В 1944 г. первое место по обслуживанию зрителей занимал Чкаловский район, второе место -Шарлыкский, третье место - Илекский район. На первое место по наибольшему охвату зрителя выдвинулось Чкаловское межрайонное отделение кинофикации. За честную и исполнительную работу Чкаловскому кинотеатру «Молот» выдали премию в размере шесть тысяч рублей для премирования отличившихся работников кинотеатра.
Несмотря на существовавшие в военные годы трудности, киномеханики с честью выполняли свое дело, давая в день по несколько сеансов. Киномеханик отвечал за качество демонстрации фильма. Он налаживал, регулировал, ремонтировал киноаппаратуру и звукопроизводящие устройства, следил не только за исправностью киноаппаратуры, но и осуществлял надзор за электросетью, от исправного действия которой зависела целостность всего электрооборудования. Работа киномехаников военной поры была нелегкой. Часто приходилось сутками, не смыкая глаз, колесить на своей кинопередвижке из одного конца района в другой, чтобы продемонстрировать труженикам тыла с нетерпением ожидаемый сеанс. Лучшие киномеханики города Чкалова и Чкаловской области в это трудное для страны время проявляли подлинные образцы организаторской и агитационно-пропагандисткой инициативы. Именно благодаря их добросовестной работе до зрителя доходили работы актеров и режиссеров того времени.
Эксплуатируемая киноаппаратура и оборудование в годы войны по своему техническому состоянию находились на очень низком уровне. Это объяснялось несколькими причинами: одной из таких причин, мешающих работе киносети, был недостаток аппаратуры и оборудования. Отсутствовали такие детали, как поршни, корневые кольца, цилиндры, магниты, коллекторы к ним, обмоточные провода, конденсаторы сопротивления, объективы, выпрямительные и усилительные лампы [6, л. 21].
Чкаловское областное управление кинофикации в довоенное время очень мало получало новой аппаратуры, и в военное время фонд аппаратуры не пополнялся и не заменялся новой. По сути, эти старые аппаратуры и оборудование должны были заменяться новыми запасными частями, которые в большинстве случаев отсутствовали. Такие попытки все-таки предпринимались. Так, в 1944 г. для изыскания запасных частей Чкаловское областное управление кинофикации послало своих представителей в другие областные управления кинофикации [2, л. 66].
Областное управление кинофикации в годы войны оказывало значительную помощь армии [20, л. 5]. В 1941-1942 гг. в Красную армию было отправлено 60 проекторов различных марок, 41 двигатель «Л-3», 22 автомашины. Летом 1943 г. часть киноаппаратуры направили в районы, освобожденные от фашистской оккупации. Из Оренбурга - в Курскую, Смоленскую, Московскую области и Ставропольский край было отдано 33 киноаппарата [2, л. 29].
Следующей причиной являлось наличие большого количества старой изношенной аппаратуры, главным образом немых кинопередвижек «ГОЗ», технически годных на 30%. К тому же этот вид аппаратуры в Чкаловскую область последний раз поступал в 1936 г. Деталей и запасных частей к ним не было, поэтому из 101 имеющегося аппарата (на 1 июня 1943 г.) работало только 48 [6, л. 17]. Но кроме этого, в области существовали такие аппаратуры, которые были приобретены еще в 1929 и 1932 гг. Они требовали капитального ремонта. А отдельных деталей для этих аппаратур не было и не выпускалось кинопромышленностью. Конечно же, ремонт проводился. Но в большинстве случаев далеко не отвечал техническим требованиям качества. Ремонтные мастерские находились в очень скверных условиях. Но, несмотря на это, всю основную аппаратуру ремонтировали сами. Так, в 1944 г. силами ремонтных мастерских было отремонтировано: проекторов - 121, усилителей - 61, двигателей -28, динамиков - 54. Кроме этого, принимались меры по изготовлению отдельных деталей путем размещения заказов на заводах, находящихся на территории Чкаловской области. Так, завод №47 принял заказ на изготовление грейферов к немой передвижке, завод «Коммунар» - заказ на изготовление детали №15 динамоприводу «ГОЗ» и на реставрацию полосков к «К-25» [6, л. 21].
Положение усугублялось еще тем, что не хватало квалифицированных кадров. С началом войны многие киномеханики ушли на фронт, и на их места приходили новые кадры, которые были недостаточно квалифицированными и без достаточного опыта работы, что впоследствии приводило к ухудшению технического состояния киноаппаратуры и порче фильмов [21, л. 54]. Из-за низкой квалификации киномехаников, из-за безответственного отношения их к сохранности кинофильмов запчасти быстро изнашивались. Были случаи, когда некоторые киномеханики передоверяли показ фильмов своим ученикам, не имеющим на это право [18, л. 52]. Так, в Бузулукском кинотеатре старший механик Шамин во время показа фильма «Победа» играл в бильярд, а его ученик сжег часть фильма. В Шарлыкском районе начальник МРО кинофикации Голимбиевский заставил ученика показать фильм «Она защищает Родину», в результате неумелого обращения с пленкой был испорчен фильм.
Факты утери частей кинофильмов носили довольно распространенный характер. Так, в Илек-ском районе по возвращении фильма «Во имя Родины» не обнаружили двух частей [18, л. 51]. Именно по этим причинам значительное количество фильмов были выведены из эксплуатации и подлежали восстановлению [18, л. 53].
В слабом техническом состоянии находились не только аппаратура и оборудование киносети, но и сами помещения кинотеатров. Кинотеатры, к сожалению, как очаги культурного времяпровождения трудящихся имели ряд недостатков. Некоторые из кинотеатров не были приспособлены для работы в зимних условиях, к тому же часть из них еще не отапливалась, из-за этого окна часто замерзали. Летом же в зрительных залах из-за отсутствия вентиляции было душно.
У каждого кинотеатра были свои проблемы. Например, в «Молоте» отсутствовала курительная комната. В отведенной специально для этого художественной мастерской обваливались потолки. Читален не было, так как касса находилась в читальне, в уголке, отгороженном от зрителей только несколькими стульями, деньги лежали в открытом ящике. В другом зале этого кинотеатра касса находилась в дверном тамбуре, деньги лежали в открытом чемоданчике. Газеты вывешивались в витрине. Оформление стен фойе плакатами и лозунгами велось недостаточно хорошо. Особенно часто ломались стулья в зрительном зале. Бывали проблемы и со светом, что, безусловно, отражалось на демонстрируемых фильмах. Так, в ноябре и в декабре 1943 г. были срывы детских киносеансов из-за отсутствия света [22, л. 39].
Большим злом в повседневной работе кино являлось хулиганство. Так, в кинотеатре «Молот» хулиганы разбили стекла, оторвали доски, испортили мебель, срезали драпировки. Кроме этого, бывали случаи воровства. Воровали все, что плохо лежало, были даже случаи кражи занавесок. Борьба с хулиганством становилась большой проблемой, и сам кинотеатр был решить ее не в состоянии, поэтому организовывалась помощь как со стороны милиции, так со стороны общественности. Вначале все дежурства педагогов, студентов и милиционеров были неорганизованными. Но со временем они стали регулярными. Во время киносеансов дежурил один милиционер. Студенты в свою очередь дежурили по два человека [22, л. 40-41], тем самым помогая установить внутренний порядок в кинотеатре.
Эти проблемы коснулись как районные кинопередвижки, так и клубы. Помещения театров были грязными и запущенными. Вместимость залов полностью не использовалась. Мест и скамеек не хватало. Например, в Халиловском районе к 1944 г. существовали следующие проблемы: и звуковая, и немая кинопередвижки не работали из-за отсутствия кадров и транспорта. Клуб в районном центре находился в аварийном состоянии, потолок проваливался, окна были выбиты, стены еле-еле держались [17, л. 51].
Ощущался острый недостаток горючего для кинопередвижек. Хотя кинотеатры имели уголь и сотрудники каждый год заготавливали дрова, топлива все равно не хватало. Так, например, в 1943 г. было заготовлено 200 тонн угля и 260 кубометров дров, но, несмотря на это, по вывозке топлива ничего не было сделано [12, л. 39]. В связи с этим со стороны районных отделений кинофикации поступали постоянные жалобы. В 1942 г. Курманаевский райком ВКП (б) сообщал о том, что киноустановка и радиоузел работали с большими перебоями из-за недостатка бензина [21, л. 62], и поэтому киноустановка Курманаевского межрайонного отделения прекратила работу.
Кроме того, кинотеатры не имели своего транспорта. Им приходилось договариваться с другими организациями о том, чтобы получить машину для перевозок. Из-за этого часто происходили задержка посылок и утеря частей фильмов.
Недостаток электроэнергии, отсутствие условий работы киномехаников-передвижников (питание, помещение), неудовлетворительное звуковоспроизведение мешали работе киносети. В районных кинотеатрах (Соль-Илецк, Покровка, Новосергиевка и др.) из-за неисправности киноаппаратуры и недостатка электроэнергии при показе фильмов давалось плохое изображение и очень слабое озвучивание [6, л. 23]. Большие перебои в подаче электроэнергии мешали работе в городе Бузулуке. Кинотеатр простоял 89 дней. В городе Чкалове кинотеатр простоял 211 дней, в Саракташе - 78 дней, в Соль-Илецке - 85 дней. Всего за это время кинотеатры простояли без подачи электроэнергии 463 дня [17, л. 48].
Таким образом, несмотря на все трудности, вызванные Великой Отечественной войной, деятельность Чкаловского (Оренбургского) областного управления кинофикации была направлена на сохранение и в дальнейшем на расширение киносети, на выполнение плана по обслуживанию городских и сельских зрителей, на подготовку кадров из числа женщин и молодежи через централизованные курсы и ученичество. Несмотря на существовавшие сложности, в военные годы киномеханики, киномеханики-передвижники с честью выполняли свое дело, давая в день по несколько сеансов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Сперанский, А.В. В горниле испытаний. Культура Урала в годы Великой Отечественной войны [Текст] /
А.В. Сперанский. - Екатеринбург : Изд-во УрО РАН, 1996. - 347 с.
2. Центр документации новейшей истории Оренбургской области (ЦДНИОО). Ф. 371. Оп. 8. Д. 674.
3. Культурное строительство в Оренбуржье: документы и материалы 1942-1987 [Текст]. - Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1989. - 191 с.
4. Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф. 2138. Оп. 1. Д. 25.
5. Хисамутдинова, Р.Р. Идеологическое воздействие власти на умонастроения граждан средствами кино в годы Великой Отечественной войны (на примере Чкаловской области) [Текст] / Р.Р. Хисамутдинова // Шестые Большаковские чтения. Культура Оренбургского края: история и современность: научнообразовательный и культурно-просветительный альманах / под ред. С.В. Любичанковского. - Оренбург : Пресс , 2013. - С. 522-532.
6. ГАОО. Ф. 2138. Оп. 1. Д. 31.
7. Чкаловская коммуна [Текст]. - 1941. - 16 сентября.
8. Чкаловская коммуна [Текст]. - 1941. - 2 сентября.
9. Чкаловская коммуна [Текст]. - 1942. - 7 января.
10. Чкаловская коммуна [Текст]. - 1942. - 29 января.
11. Чкаловская коммуна [Текст]. - 1942. - 27 февраля.
12. ЦДНИОО. Ф. 267. Оп. 15. Д. 93.
13. История советского кино 1917-1967 : в 4 т. Т 3. 1941-1952 [Текст] / Я. Айзенберг [и др.]. - М. : Искусство, 1975. - 318 с.
14. ГАОО. Ф. 2138. Оп. 1. Д. 36.
15. ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 6. Д. 247.
16. ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 8. Д. 2.
17. ГАОО. Ф. 2138. Оп. 1. Д. 40.
18. ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 7. Д. 344.
19. ГАОО. Ф. 2138. Оп. 1. Д. 34.
20. ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 8. Д. 623.
21. ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 6. Д. 247.
22. ЦДНИОО. Ф. 267. Оп. 15. Д. 93.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ (на примере Курской области)_
ГОЛОВИН Евгений Анатольевич,
кандидат исторических наук, старший преподаватель,
Курская академия государственной и муниципальной службы;
КОРОВИН Владимир Викторович,
доктор исторических наук, профессор кафедры конституционного права, Юго-Западный государственный университет
АННОТАЦИЯ. На основании архивных данных, впервые вводимых в научный оборот, на примере Курской области анализируются некоторые проблемы развития промышленности строительных материалов в период послевоенного восстановления народного хозяйства. Рассматриваются причины невыполнения производственных планов кирпичными заводами.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Курская область, народное хозяйство, кирпичный завод, строительные материалы, кирпич.
GOLOVIN E.A.,
Cand. Hist. Sci., Senior Lecturer,
Kursk Academy of State and Municipal Service;
KOROVIN V.V.,
Dr. Hist. Sci., Professor of the Department of Constitutional Law,
Southwest State University
CHALLENGES IN CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRY DEVELOPMENT DURING THE POST-WAR YEARS (ON MATERIALS OF KURSK REGION)
ABSTRACT. The article, based on the archival data first introduced into scientific circulation, on the example of Kursk region, analyzes some issues of the construction materials industry development during the post-war recovery of the national economy. The reasons of failure to follow production plans by brick factories are considered.
KEY WORDS: Kursk region, national economy, brick factory, construction materials, brick.
На рубеже 1940-1950-х гг. происходило активное восстановление народного хозяйства страны после Великой Отечественной войны.
Во всех регионах, пострадавших от военных действий, для восстановительных работ требовалось большое количество стройматериалов. Поэтому необходимость развития промышленности строительных материалов была очевидна. Возведение кирпичных заводов на территории Курской области обусловливалось имеющимися на ее территории залежами полезных ископаемых (глина, песок, известковые породы), необходимых для производства кирпича.
Анализируя данные государственных архивных фондов Курской области, можно говорить о том, что промышленность строительных материалов в указанный период развивалась активно и успешно [1, с. 55], но имелось немало проблем, характерных как для всей индустриальной сферы, так и для данной отрасли в частности.
Так, по состоянию на 25 октября 1950 г. кирпичные заводы Курской области вместо 10,9 млн. штук кирпича-сырца в месяц выпускали в среднем около 7 млн. штук (примерно 64,5% от планового задания). На Курском и Рышковском кирпичных заводах в мае-июне 1950 г. были введены в эксплуатацию новые мощные формовочные агрегаты и экскаваторы по добыче глин. Но их ввод в действие никакого эффекта не дал, наоборот, выпуск кирпича-сырца в мае-июне 1950 г. составил меньше, чем в мае 1949 г. Кроме этого, на Рышковском заводе весь сезон простоял без действия люлечный конвейер, а руководство предприятия и управление промышленности стройматериалов Курской области не приняли действенных мер к вводу его в эксплуатацию. Исходя из этого, можно сделать справедливый вывод о том, что вопросу использования механизмов должного внимания не уделялось.
Неудовлетворительное использование прессового хозяйства и других механизмов директора кирпичных заводов и руководители управления промышленности строительных материалов объясняли недостатком сушильной площади. Однако факты говорят об обратном. Сушильная площадь была использована в среднем за сезон на 70%, на СтароОскольском заводе - на 50%, на Готнянском - на 65%. И только Суджанский кирпичный завод в этот период использовал сушильную площадь на 106,6% [2, л. 88].
Информация для связи с автором: vlavikor@yandex.ru
Печное хозяйство кирпичных заводов Курской области за 5 месяцев 1950 г. было использовано на 91,5%. Съем кирпича с 1 м3 обжигательного канала составлял в среднем 1006 шт. вместо 1100 по плану. В то же время на Суджанском заводе съем кирпича составлял 802 шт., на Старо-Оскольском - 815 шт.
Ново-Оскольский кирпичный завод в 1950 г. одну кольцевую печь зажег в апреле, а вторую -только 23 мая. В результате этого, по состоянию на 1 июня 1950 г., предприятие имело остаток необожженного кирпича свыше 1 млн. шт., поэтому не форсировалась формовка сырца. Подобное положение в указанный период имело место на Курском и Рышковском кирпичных заводах. Так, Рышков-ский завод в апреле-мае 1950 г. выпустил 1447 тыс. шт. кирпича-сырца, а обжег только 687 тыс. шт. Задержка пуска печей до мая и низкий съем кирпича с 1 м3 печи создали перегрузку сушильных сараев и тормозили формовку сырца [2, л. 89].
Негативным моментом для производства кирпича являлась плохая подготовка заводов к сезону производства 1950 г. Например, на Старо-Оскольском заводе в мае 1950 г. два раза ломался пресс, а в июне он уже окончательно вышел из строя и его пришлось заменять новым. Недостаточная подготовка предприятий к сезону производства отрицательно влияла на количество и качество выпускаемой продукции.
О неудовлетворительном использовании заводами механизмов, о низком съеме кирпича с 1 м3 обжигательного канала, а также о слабой подготовке кирпичных заводов к производственному сезону знало руководство управления промышленности строительных материалов Курской области [3, с. 58]. Но, к сожалению, действенных мер для исправления сложившейся ситуации принято не было [2, л. 88-89]. Другими словами, работа кирпичных заводов была пущена на самотек.
Следует отметить, что в рассматриваемый период низкими темпами велась подготовка кирпичных заводов для перевода на круглогодичную работу. Так, в 1950-1951 гг. на такой вид работы должны были перейти Старо-Оскольский и Льговский заводы. Однако на данных предприятиях, кроме строительства сушильных сараев, других работ, направленных на перевод завода на круглогодичную работу, не велось. Необходимо заметить, что в 1950 г. кирпичным заводам области выделялась сумма расходов по утвержденным сметам в размере 2413 тыс. рублей. Но данные средства (за исключением строительства сушильной площади и расширения кольцевой печи на Рышковском заводе) были направлены на мелкие и второстепенные работы, не имевшие прямого отношения к расширению действующих мощностей и к подготовке их для перевода на круглогодичную работу [2, л. 89-90].
Исполком областного совета депутатов трудящихся отмечал, что управление промышленности строительных материалов Курской области в 1952 г. не обеспечило выполнение государственного плана выпуска кирпича и других стройматериалов. Так, из 11 предприятий промышленности строительных материалов 10 не выполнили производственной программы в 1952 г. и еще более ухудшили свою работу по сравнению с 1951 г. План выпуска валовой продукции в 1951 г. был выполнен на 91,9%, а в 1952 г. - на 75%.
В результате того, что производственная программа по выпуску кирпича-сырца в 1952 г. была выполнена лишь на 85,5%, по обжигу кирпича - на 80%, по добыче камня - на 18,5%, предприятия управления промышленности строительных материалов не смогли поставить народному хозяйству значительное количество запланированной продукции, в том числе более 13 млн. кирпича, 12219 м3 камня, 328 тыс. шт. черепицы, серьезно осложнив тем самым ситуацию с выполнением плановых заданий на многих строительных объектах и предприятиях региона [4, л. 1].
Необходимо подчеркнуть тот факт, что вследствие беспечности и бесхозяйственности, допущенной со стороны ряда работников предприятий отрасли и сотрудников управления промышленности строительных материалов, в 1952 г. было приведено в негодность более 10 млн. штук кирпича. Руководство управления промышленности строительных материалов не привлекало к ответственности бракоделов и нарушителей технологического процесса. Грубейшие нарушения технологии допускались на Суджанском, Льговском и Готнянском заводах. Администрация указанных предприятий уклонялась от проверки в центральной лаборатории качества сырья и выпускаемой продукции. В результате этого на заводах из года в год ухудшалось качество кирпича и допускалось большое количество брака.
На ряде предприятий имели место такие случаи, когда искусственно повышалась сортность и мароч-ность выпускаемого кирпича. К примеру, на Гот-нянском заводе кирпич, являвшийся браком, реализовывался вторым сортом. В связи с этим потребители вынуждены были отказываться от получения такого кирпича [4, л. 1].
В 1952 г. управлением промышленности строительных материалов Курской области так и не было создано необходимых условий для внедрения передовых методов по выпуску кирпича и черепицы. Длительное время на предприятиях не распространялся новый способ сушки кирпича, разработанный начальником цеха Краснодарского кирпичного завода №2, лауреатом Сталинской премии Иваном Картавцевым, а также не использовался опыт мастеров Курского кирпичного завода, снимавших по 2100 кирпичей с каждого канала кубометра вместо 1356 по плану. Необходимо заметить, что и рационализаторские предложения не получали широкого применения. Так, например, не была реализована инициатива Рышковского завода, организовавшего досушку кирпича-сырца в кагатах путем окуривания, одобренная Министерством промышленности стройматериалов.
Большинство предприятий не были подготовлены к началу производственного сезона 1952 г. Сушильные сараи были отремонтированы только на 83%, не была организована сушка кирпича-сырца в кольцевых печах, а сушильная площадь осталась неочищенной от завалов кирпича-сырца. И в целом производственные мощности заводов использовались неудовлетворительно. Так, в 1952 г. съем кирпича от одного пресса составлял 18500 штук (84,1%), прессы имели простои в количестве 6333 машино-часов. План съема кирпича с 1 м3 печи был выполнен только на 89% [4, л. 1-2]. Несмотря на рост энергообеспечения, а также механизации добычи глины и транспортировки кирпича, план по производительности труда в 1952 г. не был выполнен ни на одном предприятии.
В дополнение ко всему необходимо отметить, что региональным управлением промышленности строительных материалов в 1952 г. не был выполнен план капитального строительства, в связи с чем был сорван ввод в эксплуатацию двух сушильных сараев на Курском и Суджанском кирпичных заводах, а из 18 объектов кирпично-трепельного комбината ни один не имел полной готовности.
Кроме того, на предприятиях промышленности строительных материалов не соблюдался режим экономии в расходовании материальных и денежных средств. Так, себестоимость продукции в 1952 г. превышала плановые показатели на 3728 рублей. Вследствие бесхозяйственности, проявившейся в перерасходе средств, в 1952 г. убыток на предприятиях отрасли составил 3926 рублей. В связи с удорожанием себестоимости продукции и большими потерями от брака на 1 января 1953 г. предприятия вышли с недостатком оборотных средств в сумме 3522 рублей.
В течение 1951-1952 гг. в конторе снабжения управления промышленности строительных материалов действовала группа расхитителей. Пользуясь бесконтрольностью и попустительством со стороны руководства управления, сотрудниками были похищены материальные и денежные средства на сумму 39 000 рублей.
Таким образом, в результате низкой финансовой дисциплины на предприятиях, подчинявшихся управлению промышленности строительных материалов, подготовка к производственному сезону 1953 г. проходила крайне неудовлетворительно, а зарплата рабочим своевременно не выплачивалась.
Проанализировав архивные документы [5, с. 8990], можно сделать вывод о том, что руководство управления промышленности строительных материалов глубоко не вникало в работу каждого подведомственного завода и своевременно не оказывало им практической помощи. Помимо этого, из-за тяжелых условий труда и материальной незащищенности сохранялась большая текучесть кадров, имели место случаи проявления грубости по отношению к специалистам. В связи с этим, а также вследствие невыполнения производственной программы и массового выпуска бракованного кирпича, в январе 1953 г. начальник управления промышленности строительных материалов Курской области был снят с занимаемой должности [4, л. 2-3].
Итак, в начале 1950-х гг. индустрия строительных материалов развивалась противоречиво. Такие проблемы, как слабая механизация предприятий, их неподготовленность к круглогодичной работе, недостаточное внедрение рационализаторских предложений, приводили к невыполнению производственных заданий. В свою очередь срыв планов капитального строительства, хищение материальных средств на производстве, проблемы кадрового обеспечения предприятий также негативно отражались на развитии промышленности строительных материалов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Головин, Е.А. Архивные документы о тенденциях развития местной промышленности Курской области в 1950-е годы [Текст] / Е.А. Головин // События и люди в документах курских архивов : сборник научных статей. - Курск, 2015. - 154 с.
2. Государственный архив общественно-политической истории Курской области. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 1613.
3. Коровин, В.В. Индустриальный прорыв: промышленность Курской области в 1950-1965 годах [Текст] /
B. В. Коровин, Е.А. Головин, А.Н. Манжосов. - Курск, 2015. - 328 с.
4. Государственный архив Курской области. Ф. Р-3322. Оп. 44. Д. 355.
5. Головин, Е.А. Архивные документы о развитии отечественной промышленности в 1950-1960-е гг. по материалам Курской области [Текст] / Е.А. Головин, В.В. Коровин // Вестник архивиста. - 2016. - № 4. -
C. 87-99.
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России;
старший преподаватель кафедры физического воспитания,
Воронежский государственный педагогический университет
АННОТАЦИЯ. Подводятся итоги 20-летней истории работы детского археологического движения Воронежской области «Возвращение к истокам». Рассматриваются направления педагогической и научной работы профильных полевых школьных лагерей в районах области, проблемы и перспективы движения. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: «Возвращение к истокам», полевые археологические лагеря, воспитание историей, научная деятельность, педагогическая деятельность.
Cand. Hist. Sci., Docent of the Department of Russian History;
Senior Lecturer of the Department of Physical Education,
Voronezh State Pedagogical University
ABSTRACT. The article summarizes the results of the 20-year history of archaeological work of the children s movement "Return to the Roots” in Voronezh region. The directions of pedagogical and scientific work in specialized field school camps in the districts of the region, as well as the problems and prospects of the movement are considered.
KEY WORDS: "Return to the Roots”, archeological field camps, history education, scientific activity, pedagogical activity.
Археологическому движению Воронежской области «Возвращение к истокам» в 2016 г. исполнилось 20 лет. Не юбилей, но дата показательная. Конечно, было бы неверным вести отсчет участия школьников в археологических исследованиях в Воронежской области именно с этого времени. Еще члены Воронежской ученой архивной комиссии в начале XX в. привлекали учащихся школ для исследований «Частых курганов» [1]. По-видимому, этим примечательным событием и было положено начало практике участия школьников в археологических исследованиях Воронежского края.
В советское время, главным образом через археологические кружки и иные объединения, участие школьников в археологических исследованиях получило широкое распространение [2, с. 18-21]. С 1984 г. проводятся областные слеты юных археологов на базе археологической экспедиции ВГПИ (ВГПУ). В 1988 г. при областной станции юных туристов создается «Областное археологическое объединение школьников» с целью привлечения учащихся школ к работе по выявлению и охране памятников истории и культуры, древнейшего прошлого Воронежского края, пропаганды исторических знаний и профориентации учащихся; создается детско-юношеская организация «Тана-ис» [2, с. 22-30].
В середине 1990-х гг., в период финансовых и организационных неурядиц в организации детского археологического движения области, инициативная группа руководителей отрядов учащихся из различных районов области предложила возродить проведение полноценных археологических лагерей на базе археологической экспедиции ВГПУ. В 1996 г. руководители РСМ в Воронеже (Российский союз молодежи, преемник ВЛКСМ в то время) оказал финансовую поддержку, а с легкой руки одного из них «безымянное» движение получило название «Возвращение к истокам». Новая организация «Возвращение к истокам» не только впитала в себя опыт предыдущих лет, но и выработала со временем новые направления, подходы в организации и проведении полевых школьных археологических лагерей.
Сегодня у движения есть своя программа, утвержденная Советом гуманитарного факультета ВГПУ, свой гимн, флаг и иная атрибутика, свои традиции. Это, безусловно, важно, но главное заключается в том, что в основу организации работы полевых школьных археологических лагерей был положен принцип «Не развлечение, а просвещение!». Слеты юных археологов были переориентированы не на словах, а на деле в профильное русло археологии и древней истории края. Причем речь не идет только о раскопках, занимающих важный, но сравнительно незначительный интервал времени, а о комплексе рядом идущих, сопутствующих мероприятий. Фактически ни одно из них не проводится исключительно ради «отдыха», под которым часто подразумевается «ничегонеделанье».
Этот переход не был простым. Многие учителя-наставники требовали «дать детям отдохнуть» после раскопок, что подразумевало в наиболее приемлемом виде организацию дискотеки в поле. Примитивная по содержанию и неуместная в поле диско-
Информация для связи с автором: berezytski1@rambler.ru
тека не без труда, но ушла в историю, о ней уже никто не вспоминает, даже школьники. А вместе с ней ушли в прошлое и чисто развлекательные, но никак не познавательные мероприятия столь же шумные, сколь и бессодержательные, вроде «Археологической свадьбы» или прыжков в мешках. Была поставлена во главу угла иная идея, иной принцип - создание информационно-познавательного, творческого поля для учащихся, где каждый мог бы проявить себя, в первую очередь как коммуникабельный, творческий, образованный и знающий свою историю молодой человек. А если еще не может, то, во всяком случае, сделал бы первые шаги в этом направлении.
Активизация познавательной, творческой деятельности проводится в профильном археологическом лагере «Возвращение к истокам» через различные формы. Студенты одноименного археологического педотряда готовят к полю лекции по археологии и проводят их в отрядах. Здесь и основы археологии, и путешествия по интересным и познавательным археологическим объектам края и всего мира с творческими заданиями. Это урок в поле.
«Белые береты» - конкурс среди юношей и девушек на звание лучших юных археологов с вручением победителям белого берета с символикой археологического движения «Возвращение к истокам» (в районных лагерях - «Белые галстуки»). Чтобы получить белый берет, белый галстук надо многое знать и уметь: знать основы археологии, уметь начертить глиняный горшок, развести быстрее всех костер, заштопать порванную ткань, расчистить импровизированное погребение кистью и ножом, отгадать археологический кроссворд, попасть из лука в мишень и т.д. Надо видеть счастливые лица победителей, которых качают на руках члены отряда, и слезы тех, кто сквозь всхлипывания клянется в следующем году набрать нужное количество баллов, чтобы понять, почему люди так радуются и из-за чего проливают слезы. Даже шумное, веселое и на первый взгляд исключительно развлекательное действо под названием «Торжище в Царьграде» или «Археологический театр» имеют глубокое познавательное содержание: знание традиций разных народов.
В итоге полевые археологические лагеря стали базой профессиональной ориентации учащихся, поступающих на исторические, гуманитарные факультеты. И сегодня на гуманитарном факультете ВГПУ учатся студенты, которые еще вчера были участниками полевых профильных археологических лагерей «Возвращение к истокам». Расширилась и география лагерей: сегодня они проводятся не только в форме областного мероприятия, но и в форме районных лагерей, охватывая четыре (в недалеком прошлом - пять) района области.
В настоящее время много говорится о патриотизме, формах работы по патриотическому воспитанию молодежи. Огромная роль здесь принадлежит истории [3; 4]. Изучение исторического прошлого дает возможность осознать сложный и драматичный путь развития человечества и своей страны, закладывает в сознание человека уважение к деяниям предков, далеких и близких, уважение к своей истории. Ведь «Родину любят не за то, что она большая, а за то, что она своя», - говорил Сенека. Между тем даже в специальных работах по патриотическому воспитанию значение «воспитания историей» часто суживается до осознания необходимости «служить Отечеству» [5, с. 9].
Советская система воспитания в духе советского патриотизма ушла в прошлое, а новая - не выработана. Не выработаны действенные рычаги воздействия на сознание современной молодежи, воспитанной на иных традициях и живущей иными представлениями о духовных ценностях, нежели их советские предшественники. Разовые обязательные мероприятия в школе, посвященные историческим датам и событиям, призывные лозунги («Люби свой край!», «Люби свою Родину!») не находят ожидаемого отклика у молодежи и отражения в их мыслях и поступках. Молодежь неосознанно нуждается в ненавязчивых, идущих исподволь, доступных и привлекательных для нее формах общения, проявления себя как личности. Никакие лозунги и призывы, кажущиеся взрослому поколению такими ясными и понятными, не найдут у молодежи отклика, пока она сама не осознает их значимость на своем опыте. «Возвращение к истокам» как раз и занимается тем, что называется «воспитание историей».
В период становления археологии с участием школьников ее так и называли - «школьная археология». Неспроста впоследствии это направление деятельности стало именоваться «педагогическая археология». Потому что ярко и во всем своем величии проявлялось то огромное воспитательное значение, которое оказывает соприкосновение юного поколения с историческим прошлым, которое проступает не в передаче текста учебника, а через свои руки. Чтобы самому ощутить «дух времени», когда в твоих руках оказывается свидетельство да-лекого-далекого прошлого, от чего - мурашки по коже, удивление и трепетное отношение к нему, прошлому. Это и есть точка отправления по дороге воспитания уважения к минувшему, деяниям своих далеких и близких предков, развития творческих способностей детей, направления их деятельности по пути образования, а в конечном итоге, как бы это не звучало «парадно», по пути воспитания патриота. В хорошем, здоровом смысле слова. Того, кто не наглядно и не на каждом шагу шумит о своей любви к родному краю где-нибудь на публичном мероприятии, а того, кто впитывает это чувство пусть и неосознанно, но верно. Кто за курганами и погребениями видит со временем нечто большее -историю своего народа и самого себя.
В работу полевых лагерей с самого начала были привлечены учителя. Система организации работы областного, а теперь и районных лагерей - отрядная. Каждый отряд имеет свою символику, традиции, свое место в общей системе археологических исследований и расположения лагеря, а также своего наставника-учителя, того, кто отвечает за их жизнь и здоровье. Со временем полевые лагеря «Возвращения» стали волей-неволей и базой для подготовки учительских кадров для работы по направлению «Археология» и «Краеведение», и местом «паломничества» краеведов, часть из которых стали руководителями археологических объединений. Полученные в поле навыки, информация помогали и помогают учителям вести археологический, краеведческий кружок. В поле можно увидеть отца Сергия - священника из Бутурлиновки, в прошлом не раз выезжавшего со школьниками в полевой лагерь; кандидата исторических наук В.В. Степкина из Павловска; руководителя поискового отряда «Память» и учителя Н.Л. Новикова из Богучарского района (сегодня - руководитель районного археологического лагеря); бывшего лесника, а теперь руководителя Дома детского творчества с. Лосево Павловского района - С.Н. Дущенко (руководитель районного археологического лагеря); А.М. Гринева и М.В. Овчаренко - выпускников исторического факультета ВГПУ, а теперь организаторов Россошанского лагеря юных археологов и многих других.
Сегодня уже никто не представляет работу в лагере без археологического педотряда гуманитарного факультета «Возвращение к истокам». И хотя в него входят зачастую представители других факультетов, когда-то еще школьниками принимавшие участие в работе лагерей, основу педотряда составляли и составляют студенты исторического (в прошлом), гуманитарного (в настоящем) факультета. С февраля начинаются учебные занятия по работе в детских оздоровительных лагерях, подготовка к педпрактике. Студенты, не знакомые со спецификой работы в «Возвращении к истокам», вникают в нее, опытные помогают. Никакого иного принципа отбора, кроме принципа добровольности выбора, у нас нет. А поэтому итоги набора бывают разные - от 7-8 студентов до желающих в 30 человек. Справлялись и справляемся в любом случае, и место в отряде находится всем. И сегодня есть желающие поехать в поле - к палаткам, комарам, дождям и детям. Но основу педотряда всегда составляли волонтеры - энтузиасты своего дела, с 1-го курса окунувшиеся в мир археологии и детского археологического лагеря. Многие из них работают сегодня в школе, иные организовали свои отряды и ездят в лагеря, другие готовятся к этому, и это отрадно. Традиции продолжаются.
За время работы «Возвращения к истокам» накоплен значительный по объему и важный по научной значимости археологический материал. В силу специфики научного поиска, «Возвращение к истокам» занимается главным образом раскопками курганов. К настоящему времени количество исследованных курганов перевалило за 100 единиц, а хронология погребений охватывает период с древнеям-ного времени (III тыс. до н.э.) по эпоху Средневековья (XIII-XIV вв.) Причем в подавляющем большинстве случаев это либо разрушаемые объекты археологического наследия, либо почти полностью разрушенные.
Накопленная информация нашла отражение в многочисленных научных статьях и в серии книг научно-популярного и монографического характера [6-11]. Организаторы движения получили впервые «Методические и информационные материалы к проведению полевого профильного лагеря» [12]. Найдена форма преподнесения научного материала. Первая часть книги содержит научный раздел для специалистов, а вторая - научно-популярный раздел для тех, кто хочет поближе познакомиться с археологическим наследием края.
В период рыночных отношений для школьников, а соответственно и для их родителей, пребывание в полевых археологических лагерях «Возвращения» бесплатное. Финансы, пусть и ограниченные, идут из средств, выделенных на летний отдых детей. Поэтому здесь самые разные дети по своему социальному положению. Есть возможность при желании побывать в лагере, ощутить себя частью большого коллектива, где можно и себя показать, и чему-то научиться, и на других посмотреть. Надо ли говорить, что это не только важно, но и необходимо?
И совсем неуместными видятся попытки чиновников разных инстанций закрыть полевые лагеря под предлогом «заботы о здоровье детей» и пополнить далеко не бесплатные стационарные лагеря, причем вовсе не профильные, а тем более не археологические. Ни для кого не секрет: полевым лагерям созданы невероятно сложные условия выживания. Здесь и Роспотребнадзор, и пожарники, и кого только нет. Все заботятся о здоровье детей и ужасаются: как можно ребенка вывозить в какую-то глушь, да еще помещать его в палатку! За этими заботами о наших детях стоит опасный и реально грозящий результат - воспитать потребителя и комнатного человека, который борется с трудностями в компьютере, живет в домашнем тепле и уюте, в виртуальном мире иллюзий. А если ему придется все же разводить костер, сушиться после дождя, дрова сухие искать, иначе говоря, просто выживать?
История категоричных запретов у нас удивительна и поучительна, а основана она на принципе «как бы чего не вышло» чиновников эпохи Салтыкова-Щедрина. В нашем движении традиционно готовили пищу на костре, и не было ни единого случая отравления. Потом на это ввели запрет, предложили готовить на газовых плитах. Туристов стали снаряжать в походы с портативными плитами и газовыми баллончиками. Умилению не было предела, но вдруг кто-то решил попробовать действие баллончика в костре, после чего появился запрет на газ. И что же теперь? А теперь каждый ищет собственный выход из трудной ситуации. Пожарники запрещают костры и газовые плиты, требуют строить столовые со стационарным оборудованием и допусками к газовым плитам (кто бы дал на все это денег?), либо возить готовую пищу в термосах. Роспотребнадзор составил такие требования, что проведение полевых лагерей в принципе стало невозможным делом. Чего стоит только список запрещенных продуктов. Сегодня надо столько бумаг составить, чтобы совершить благородное дело, что энтузиазм организаторов быстро проходит, проще провести однодневную разовую поездку школьников на автобусе.
За долголетнюю практику проведения полевых лагерей и экспедиций сложилось убеждение, что сущность вопроса кроется в гораздо большей глубине нашей системы организации отдыха детей. Эту глубину можно охарактеризовать так: у нас не создана система, которая бы реагировала на запросы времени и энтузиазм проводников здоровых и нужных идей. Системе этот энтузиазм вместе с его походами и палатками - кость в горле. И она, эта система, работает на отторжение, в том числе и полевых лагерей, какой бы профиль они не имели -этнографический, туристический, археологический. Потому что главным принципом работы этой системы является пресловутая схема «как бы чего не вышло», приукрашенная со всех сторон «заботой о здоровье детей». С тревогой наблюдаем наши ряды, которые редеют год от года, но жить, а вернее выживать, надо! На том же самом энтузиазме, который, как показывает практика, живее всех живых!
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Замятины, С.Н. Скифский могильник «Частые курганы» под Воронежем [Текст] / С.Н. Замятины // Советская археология. - 1947. - № VIII. - С. 19-42.
2. Погорелов, В.И. Из истории школьной археологии в Воронежской области [Текст] / В.И. Погорелов // Археологическое движение школьников в Воронежской области : сб. тр. - Воронеж : Фортуна, 2011. -С. 18-33.
3. Березуцкий, В.Д. Детское археологическое движение «Возвращение к истокам» как форма организации познавательного интереса к историческому прошлому [Текст] / В.Д. Березуцкий // Современные проблемы и технологии обучения истории : матер. науч.-практ. сем. - Воронеж : ВГПУ, 2010. - С. 84-86.
4. Березуцкий, В.Д. Археологическое движение «Возвращение к истокам»: по пути патриотического воспитания [Текст] / В.Д. Березуцкий // Археологическое движение школьников в Воронежской области : сб. науч. тр. - Воронеж : Фортуна, 2011. - С. 36-42.
5. Агапова, В.Г. Организация работы по патриотическому воспитанию в учреждениях образования : учебнометодическое пособие [Текст] / В.Г. Агапова. - Воронеж : ВОИПКРО, 2005. - 50 с.
6. Березуцкий, В.Д. Древности Богучарского края [Текст] / В.Д. Березуцкий, В.В. Кравец, Н.Л. Новиков. -Воронеж : ВГПУ, 2005. - 130 с.
7. Березуцкий, В.Д. Археологические древности земли Воронежской. Край Острогожский [Текст] / В.Д. Березуцкий, П.М. Золотарев. - М. : Братишка, 2007. - 448 с.
8. Березуцкий, В.Д. Россошанские курганы [Текст] / В.Д. Березуцкий, А.М. Гринев. - Воронеж : Пресса ИПФ, 2008. - 174 с.
9. Березуцкий, В.Д. Археологические древности земли Воронежской. Край Богучарский [Текст] / В.Д. Березуцкий. - Воронеж : Научная книга, 2012. - 200 с.
10. Березуцкий, В.Д. Очерки по истории Верхнехавского края: факты, события, люди [Текст] / В.Д. Березуцкий, А.А. Зацепин. - Воронеж : Кварта, 2014. - 432 с.
11. Березуцкий, В.Д. Курганы на юге Воронежской области [Текст] / В.Д. Березуцкий. - Воронеж : ВГПУ, 2015. - 154 с.
12. Методические и информационные материалы к проведению полевого профильного лагеря [Текст] / В.Д. Березуцкий [и др.]. - Воронеж : TerraCopy, 2014. - 40 с.
кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой теории, истории и методики преподавания русского языка и литературы;
аспирант кафедры теории, истории и методики преподавания русского языка и литературы,
Воронежский государственный педагогический университет
АННОТАЦИЯ. Гендер, являясь концептуальной сущностью, конструируется на конвенциональной основе и реализуется в языке и речи. Впервые в рамках гендерных исследований ставится вопрос о разграничении понятий репрезентации и вербализации гендера в тексте. Статья посвящена анализу репрезентации гендера в фольклорном тексте. Пословицы в качестве материала исследования репрезентативны, так как частотность лексем, манифестирующих мужское и женское начало, в два раза выше аналогичных показателей в современном русском литературном языке. Анализ специфики репрезентации гендера проведен путём определения и интерпретации атрибутивных признаков мужественности и женственности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гендер, гендерная лингвистика, лингвофольклористика, фольклор, пословица. DOBROVA S.I.,
Cand. Philolog. Sci., Docent, Head of the Department of Theory,
History and Methodology of Teaching Russian Language and Literature;
Postgraduate Student of the Department of Theory,
History and Methodology of Teaching Russian Language and Literature,
Voronezh State Pedagogical University
ABSTRACT. Gender, as a conceptual entity, is constructed on a conventional basis and implemented in language and speech. For the first time within gender studies, the question of delineating the concepts of representation and verbalization of gender in the text is posed. The article is aimed at the analysis of gender representation in a folklore text. Proverb, as a research object, is a good illustration, since the frequency of lexemes manifesting masculine and feminine is twice as high as in the modern Russian literary language. Analysis of particular characteristics of the gender representation is conducted by defining and interpreting the attributes of masculinity and femininity.
KEY WORDS: gender, gender linguistics, linguistic folklore, folklore, proverb.
На протяжении истории развития человечества мужчинам и женщинам присваиваются атрибутивные качества, психологические характеристики, социальные роли, которые в результате ассоциируются не с конкретными мужчинами или женщинами, а с категориями мужественности/мужского начала и женственности/женского начала, являющимися специфичными в рамках каждого общества и культуры. Данное явление диктует необходимость разграничения в рамках научной системы понятия о биологическом поле как о физиологической составляющей индивида и о гендере - социокультурном поле, формирующемся на конвенциональной основе и являющемся концептуальной структурой, репрезентируемой на вербальном и невербальном уровнях.
Изначально понятие «гендер» существовало в английском языке для обозначения грамматической категории рода. Исследователь Н.А. Блохина отмечает, что «в англо-русском словаре В. Мюллера "гендер" имеет два значения: первое для обозначения грамматического рода, второе для обозначения пола в его шутливом смысле» [1]. Идея представления гендера как социального конструкта впервые была сформулирована в труде К. Уэста и Д. Зиммермана «Создание гендера» [2]. В своей современной трактовке понятие «гендер» вошло в науку в 60-е годы XX века. Именно этот период является началом гендерных исследований в западной гуманитарной науке. Важнейшим импульсом для зарождения нового научного направления стал переход от структурализма к прагматике, а также серьезные
Информация для связи с автором: mariya.mudraya@gmail.com
изменения в обществе, связанные с новым женским движением в Европе и США, феминистская идеология которого повлияла и на философию постмодернизма, и на развитие языкознания. Ключевыми исследованиями гендерной проблематики начального периода являются работы Робина Лакоффа «Язык и место женщины» [3], Эрвинга Гоффмана «Гендерная реклама» [4] и «Договорённость между полами» [5], монография Луизы Пуш «Немецкий -язык мужчин» [6].
В рамках научной парадигмы отечественной лингвистики фактор пола изучался в аспекте прагматического анализа языка [7; 8; 9]. Собственно гендерные исследования сформировались в России в 90-е годы XX века, что было обусловлено становлением антропологической парадигмы, теоретическим и методологическим осмыслением взаимосвязи человеческого мышления и языка.
И в отечественной, и в зарубежной науке существует множество трактовок термина гендер, что свидетельствует о востребованности проведения гендерных исследований. Для настоящего исследования актуально определение гендера, сформулированное Е.С. Гриценко: «Современная наука определяет гендер как конвенциональный идеологический конструкт, в котором аккумулированы представления о том, что значит быть мужчиной и женщиной в данной культуре» [10]. Вопрос о культурологическом и онтологическом статусе гендера подвергается анализу в работах таких отечественных лингвистов, как О.А. Воронина [11], Е.И. Горошко [12], Е.С. Гриценко [10], О.Л. Каменская [13], А.В. Кирилина [14], В.Н. Телия [15], М.В. Томская [16; 17].
Отличительной чертой гендерных исследований является их междисциплинарный характер, в соответствии с которым получение нового знания возможно на стыке наук, так как «в гендере происходит сложнейшее переплетение культурных, психологических и социальных аспектов» [18]. Исследование выполнено на границе следующих сфер научного знания о языке: гендерной лингвистики, лингвофольклористики, когнитивной лингвистики, лингвокультурологии.
На современном этапе развития лингвистических исследований манифестации гендера сформировалось два направления. В рамках первого направления анализу подвергается отражение гендера в языке, специфика репрезентации и вербализации, «культурное своеобразие гендера, схожие и отличительные черты его конструирования» [19, с. 79]. Второе направление исследования гендера сосредоточено на анализе речевого поведения, особенностях коммуникации мужчин и женщин.
В связи с тем, что понятия репрезентация и вербализация многозначны и широко употребляются не только в лингвистике, но и в философии, психологии, социологии, необходимо раскрыть их значение применительно к лингвистическим гендерным исследованиям. Формирование гендера как идеологического конструкта, концептуальной сущности происходит на ментальном уровне и заключается в манифестации определенных признаков в качестве атрибутов мужского или женского начала. Образ гендера, закреплённый в сознании носителей языка, может быть реализован в тексте через репрезентацию атрибутивных признаков мужского и женского начала, что составляет концептуальное содержание гендерной информации. Объективация названных представлений/репрезентаций происходит посредством вербализации, то есть механизмов, моделей конструирования гендера в тексте, что составляет структурное воплощение гендерной информации. Проблема специфики вербализации гендера является предметом самостоятельного исследования, выходящего за рамки настоящей работы.
Объектом исследования является отражение гендера в языке, предмет - репрезентация гендера в фольклорном тексте. Актуальность предпринятого исследования определяется недостаточной разработанностью гендерной проблематики в лингвофольклористике, так как при широком диапазоне гендерных исследований «фольклористических гендерных исследований значительно меньше, чем кажется на первый взгляд», как отмечает Ю.Ю. Атрощенко в статье «Гендерная проблематика современной фольклористики» [20, с. 11]. Возможно выделить лишь небольшой круг исследователей, занимающихся лингвистическим анализом гендера в фольклоре, среди которых Л.К. Ибрагимова [21], Т.В. Савельева [22], Н.С. Шушанян [23]. Разработке проблемы гендера в области фразеологии и паремиологии русского языка посвящено диссертационное исследование Стрекаловой [24]. Работы исследователей - Ю.А. Закировой [25], Э.С. Хузиной [26], М.А. Сташковой [27] - выполнены на материале паремиологии английского, немецкого, итальянского, татарского и других языков.
Целью настоящего исследования является анализ специфики репрезентации гендера в фольклорном тексте. Источниковая база исследования представлена паремиологическим материалом сборника В.И. Даля «Пословицы и поговорки русского народа» [28], корпус которого составляет около 15000 пословиц. Выбор пословиц в качестве материала исследования обусловлен тем, что паремии, являясь фольклорными текстами, репрезентируют наивную картину мира, которая признана современной лингвистикой разновидностью языковой картины мира. Мы разделяем точку зрения Н.Ф. Алефиренко, признающего особое положение паремий в языковой картине мира, «поскольку они наиболее образно, аргументированно и лаконично позволяют выразить целый комплекс культурных смыслов, связанных с феноменом человека» [29, с. 311].
Ключевыми номинациями гендерных категорий мужественности и женственности в пословицах являются просторечные лексемы баба и мужик, которые представляют собой стилистические синонимы по отношению к нейтральным, общеупотребительным лексемам мужчина и женщина. Лексема мужик и производные от неё номинации встречаются в текстах 116 раз (мужик, мужичок, мужичий, мужицкий), лексема мужчина употребляется лишь в одной пословице. Лексема баба и притяжательное прилагательное бабий упоминаются 127 раз, лексема женщина и притяжательное прилагательное женский используются 11 раз. Более высокая частотность употребления просторечных лексем мужик и баба связана с тем, что основной сферой функционирования пословиц является обиходно-разговорная речь.
Анализ частотности лексем мужик и баба позволяет сделать вывод о репрезентативности материала исследования. Показатель общей частотности представляет собой количество употреблений лексем на миллион слов корпуса, или ipm (instances per million words), данный показатель является стандартным, вычисляется относительно условного корпуса в миллион единиц независимо от объема реального корпуса по формуле ipm(x)=freq(x)41 000 000/corp, где freq(x) - частота единицы в корпусе, а corp - объем реального корпуса [31].
Объем сборника В.И. Даля «Пословицы и поговорки русского народа» [28] составляет 131586 лексем.
Следовательно, общая частотность ключевых номинаций женского начала в сборнике Даля составляет (127+11)Ч1000000/131586=1048.7 ipm. По данным «Частотного словаря современного русского языка» О.Н. Ляшевской, С.А. Шарова [30], лексема женщина имеет частотность 533.3 ipm, лексема баба - 81.2 ipm. Путём сложения получаем общую частотность лексем, составляющую 614.5 ipm,
Общая частотность ключевых номинаций мужского начала в текстах пословиц составляет (116+1)41000000:131586=889.1 ipm. Частотность лексем мужчина, мужик, мужицкий, мужичий, мужичок, по данным «Частотного словаря современного русского языка», составляет сумму 2 53.2 + 124.7+98 + 2.5 + 0.4 = 4 78.8 ipm.
Таким образом, показатели частотности гендерных номинаций в текстах пословиц сборника В.И. Даля «Пословицы и поговорки русского народа» в два раза превышают аналогичные показатели «Частотного словаря современного русского языка».
Результаты анализа частотности лексем представлены в таблице №1.
Таблица №1 - Анализ частотности лексем
|
Лексема |
Показатели частотности ipm | |
|
«Частотного словаря современного русского языка» |
Сборника В.И. Даля «Пословицы и поговорки русского народа» | |
|
Баба, женщина |
614.5 |
1048.7 |
|
Мужик, мужчина |
478.8 |
889.1 |
Анализ специфики репрезентации гендера проведен путём определения и интерпретации атрибутивных признаков мужественности и женственности. Выявленные атрибутивные признаки объединены в группы на основании общего семантического компонента. Так, например, атрибутивные признаки внешности, возраста, здоровья, гастрономических пристрастий объединены в рамках группы биометрических признаков. Основу классификации составил спектр характеристик гендера, включающий в себя биометрию, аксиологию, эмо-тивность, институциональность. Ментально-функциональные признаки гендера, впервые выделенные исследователем И.В. Палаевой в диссертационной работе «Реконструкция гендерной концептосферы в картине мира среднеанглийского периода» [31], также обнаружены на материале исследуемых па-ремиологических текстов.
В результате анализа выявлено 26 атрибутивных признаков мужественности, объединённых в шесть групп: биометрическую (внешность, возраст, здоровье, гастрономические пристрастия), институционально-ролевую (доминирование, семейная роль, мужская работа, мужская модель поведения, коммуникативное поведение), аксиологическую (жадность, активность, пассивность, трудолюбие, лень, упрямство, умение приспособиться (гибкость), жестокость), эмотивную (агрессивность, эмоциональность), ментально-функциональную (ум, глупость, хитрость, простота), социально-экономическую (богатство, бедность, патриотизм).
Выявлен 21 атрибутивный признак женственности в рамках пяти групп: биометрической (внешность, возраст, гастрономические пристрастия), институционально-ролевой (подчинение (зависимость ), семейная роль, женская работа, женская модель поведения, коммуникативное поведение), аксиологической (жадность, активность, пассивность, трудолюбие, ласка, лукавство, греховность, льстивость, лживость), эмотивной (агрессивность, эмоциональность), ментально-функциональной (ум, глупость).
Выявленные группы и входящие в их состав атрибутивные признаки, репрезентирующие гендер, представлены в таблице №2.
Таблица №2 - Группы атрибутивных признаков
|
Атрибутивные признаки |
Атрибутивные признаки |
|
мужественности |
женственности |
|
1. Группа биометрических атрибутивных признаков | |
|
а) внешность | |
|
Мужичок не казист, да в плечах харчист [28, с. 341] |
Продай корову да купи бабе обнову [28, с. 445] |
|
б) возраст | |
|
Стар муж, так удушлив; молод, так не сдружлив [28, с. 182] |
Старой бабе и на печи ухабы [28, с. 176] |
|
в) здоровье | |
|
Барская хворь — мужицкое здоровье. [28, с. 358] |
Признак не выявлен |
|
г) гастрономические пристрастия (еда и питьё) | |
|
Русского мужика без каши не накормишь [28, с. 359] |
Кисель да сыта — бабья еда [28, с. 416] |
|
2. Группа институционально-ролевых атрибутивных признаков | |
|
а) доминирование | |
|
Не петь куре петухом, не владеть бабе мужиком. [28, с. 174] |
Признак не выявлен |
|
б) подчинение | |
|
Признак не выявлен |
Бабий быт - завсе бит [28, с. 174] |
|
Атрибутивные признаки |
Атрибутивные признаки |
|
мужественности |
женственности |
|
в) семейная роль | |
|
Что гусь без воды, то мужик без жены [28, с. 185] |
У плохой бабы муж на печи лежит, а хорошая сгонит [28, с. 183] |
|
г) распределение обязанностей (мужская и женская работа) | |
|
Торгуй мужик пшеницей, баба чечевицей! [28, с. 291] |
Весна — бабья работа (белка холстов) [28, с. 454] |
|
д) мужская и женская модель поведения | |
|
Мужик клином, баба блином, а тож доймет [28, с. 184] |
Мужики дерутся в расходку, а бабы в кучку (ворохом) [28, с. 138] |
|
е) коммуникативное поведение | |
|
Не гром грянул, что бедный (или: что мужик) слово молвил [28, с. 101] |
Бабу не переговоришь [28, с. 173] |
|
3. Группа аксиологических атрибутивных признаков | |
|
а) жадность | |
|
Посади мужика к порогу, а он под святые лезет [28, с. 332] |
Баба нехотя целого поросенка съела [28, с. 401] |
|
б) активность | |
|
Мужик хлопочет, себе добра хочет [28, с. 224] |
Женский обычай — что вперед забежать [28, с. 174] |
|
в) пассивность | |
|
Мужик, что мешок: что положишь, то и несет |
Баба, что мешок: что положишь, то и несет |
|
[28, с. 359] |
[28, с. 173] |
|
г) трудолюбие | |
|
Купец торгом, поп горлом, мужик горбом (берет) |
Из водицы да из мучицы баба пироги печет |
|
[28, с. 248] |
[28, с. 242] |
|
д) лень | |
|
Лень мужика не кормит [28, с. 234] |
Признак не выявлен |
|
е) упрямство | |
|
Мужик, что рогатина: как упрется, так и стоит [28, с. 359] |
Признак не выявлен |
|
ж) умение приспособиться, гибкость | |
|
Бары кипарисовые, мужики вязовые (и гнутся, и тянутся) [28, с. 357] |
Признак не выявлен |
|
з) жестокость | |
|
Мужик волостель — пущий живодер [28, с. 358] |
Признак не выявлен |
|
и) ласка | |
|
Признак не выявлен |
Женская ласка да морская затишь (равно надежны) [28, с. 315] |
|
к) лукавство | |
|
Признак не выявлен |
Лукавой бабы и в ступе не истолчешь [28, с. 173] |
|
л) греховность | |
|
Признак не выявлен |
Больше баб в семье, больше греха [28, с. 189] |
|
м) льстивость | |
|
Признак не выявлен |
Женская лесть без зубов, а с костьми сгложет [28, с. 174] |
|
н) лживость | |
|
Признак не выявлен |
Не все то правда, что бабы врут [28, с. 339] |
|
4. Группа эмотивных атрибутивных признаков | |
|
а) агрессивность | |
|
Не мазана арба скрыпит; не сечен мужик рычит |
Баба, что глиняный горшок: вынь из печи, он |
|
[28, с. 135] |
пуще шипит [28, с. 173] |
|
б) эмоциональность | |
|
На вдовий плач глядя, и мужик убивается. [28, с. 291] |
Баба слезами беде помогает [28, с. 173] |
|
5. Группа ментально-функциональных атрибутивных признаков | |
|
а) ум | |
|
У мужика кафтан сер, да ум у него не волк (не черт) съел [28, с. 205] |
Женский ум лучше всяких дум [28, с. 205] |
|
б) глупость | |
|
Мужик — дурак: не чует, что в бороде рак [28, с. 359] |
Волос долог (у бабы), а ум короток [28, с. 164] |
|
в) хитрость | |
|
Мужик-плут, продай кнут; мужик-ежик, продай ножик! [28, с. 359] |
Признак не выявлен |
|
г) простота | |
|
Мужик простой, как кисель густой [28, с. 210] |
Признак не выявлен |
|
Атрибутивные признаки |
Атрибутивные признаки |
|
мужественности |
женственности |
|
6. Группа социально-экономических атрибутивных признаков | |
|
а) богатство и бедность | |
|
Убогий мужик и хлеба не ест; богатый — и мужика съест [28, с. 75] |
Признак не выявлен |
|
б) патриотизм | |
|
Мужик — Богу свеча, государю слуга [28, с. 360] |
Признак не выявлен |
Каждая группа представлена атрибутивными бинарными признаками, репрезентирующими мужское и женское начало, а также монопризнаками, репрезентирующими только мужское или только женское начало.
В группу биометрических вошли следующие бинарные атрибутивные признаки: внешность, возраст, гастрономические пристрастия. Монопризнак здоровья репрезентирует исключительно мужское начало.
Атрибутивный бинарный признак внешности применительно к мужскому началу в текстах пословиц демонстрирует невысокие требования, предъявляемые к мужскому облику, который воспринимается как природная данность.
Мужчина, коли хоть немножко казистее черта, — красавец [28, с. 179].
Признак внешности применительно к женскому началу в текстах пословиц транслирует представления о внешности женщины как формируемом качестве.
Красна баба повоем, а корова удоем [28, с. 346].
В рамках атрибутивного бинарного признака возраста, свойственного категориям мужественности и женственности, репрезентированы различные этапы жизни человека. При этом указание на количественное ограничение имеет только женский возраст.
Сорок лет — бабий (женский) век [28, с. 377].
Атрибутивный монопризнак здоровья, репрезентирующий исключительно мужское начало, соотносится прежде всего с понятиями силы и крепости.
Мужик сделан, что овин, а сбойлив, что жидовин [28, с. 359].
Признаки возраста и здоровья, являясь показателями физического состояния человека, тесно взаимосвязаны, но наблюдаемая в текстах пословиц дифференциация названных признаков для мужского и женского начала позволяет предположить большую ценность молодости для женщины и, соответственно, более высокий ценностный статус силы и здоровья для мужчины.
Репрезентация гендера в группе институционально-ролевых атрибутивных признаков связана с распределением гендерных ролей в институте семьи и представлена следующими бинарными признаками: семейная роль, распределение обязанностей, мужская и женская модель поведения, коммуникативное поведение. Монопризнаками в данной группе являются доминирование и подчинение. Доминирование всегда соотнесено с мужским началом, а подчинение, соответственно, - с женским началом.
Что к чему покорно: щи к пирогу, хлеб к молоку, баба к мужику, девка к парню [28, с. 305].
Курице не быть петухом, а бабе мужиком [28, с. 173].
В пословицах репрезентирована информация о мужских и женских моделях поведения, о мужской и женской работе.
Мужик да собака всегда на дворе, а баба да кошка завсегда в избе [28, с. 173].
Торгуй мужик пшеницей, баба чечевицей! [28, с. 291].
Культурологической базой институциональноролевых атрибутивных признаков гендера являются патриархальные установки, в рамках которых регламентированы основные представления о мужских и женских качествах, нормах поведения. По словам В.Н. Телии, большинство пословиц - это «пре-скрипции-стереотипы народного самосознания, дающие достаточно широкий простор для выбора с целью самоидентификации» [15, с. 240].
В рамках репрезентации бинарного атрибутивного признака коммуникативного поведения наблюдаются две тенденции. Первая тенденция, связанная с уравниванием моделей мужского и женского коммуникативного поведения, представлена в гендерно-маркированных вариантах пословиц, вступающих в парадигматические отношения оппози-тивного типа.
С мужиком не скоро сговоришь [28, с. 359].
С бабой не сговоришь [28, с. 173].
Вторая тенденция связана с репрезентацией стереотипных представлений о коммуникативных моделях, используемых мужчинами и женщинами. Активная, сильная позиция мужчины в ситуации коммуникации имеет высокий ценностный статус по сравнению с коммуникативной позицией женщины, рассматриваемой в рамках идеи женской многословности и имеющей низкий ценностный статус.
Бабий язык, куда ни завались, достанет [28, с. 173].
Вольна баба в языке, а черт в бабьем кадыке [28, с. 173].
В группе аксиологических атрибутивных признаков репрезентированы представления о внутренних свойствах мужчин и женщин, чертах характера. Тенденция уравнивания мужского и женского начала наблюдается в текстах пословиц, манифестирующих пассивность и отрицательное отношение к воле (свободе). Основание для данного утверждения составляет анализ идентичной логикосемантической структуры текстов, вступающих в парадигматические отношения.
Воля и добрую жену портит [28, с. 443].
Воля и добра мужика портит [28, с. 443].
В группу эмотивных объединены бинарные атрибутивные признаки агрессивности и эмоциональности, характеризующие как мужское, так и женское начало.
В анализируемых текстах репрезентированы эмоциональные состояния гнева и грусти. Эмоция гнева типична для репрезентации мужского и женского начала, эмоция грусти типична для репрезентации женского начала и традиционно связана с плачем.
Без плачу у бабы дело не спорится [28, с. 173].
Отношение к женскому плачу зачастую имеет снисходительно-иронический характер.
У баб да у пьяных слезы дешевы [28, с. 173].
Бабьи слезы чем больше унимать, тем хуже [28, с. 173].
В группе ментально-функциональных представлены атрибутивные признаки ума, глупости, хитрости, простоты.
Атрибутивные бинарные признаки ума и глупости соотносятся и с мужским, и с женским началом.
Мужик умен, да мир дурак [28, с. 194].
Мужик глуп, как свинья, а хитер, как черт [28, с. 359].
Волос долог (у бабы), а ум короток [28, с. 164].
Признаки хитрости и простоты, интерпретируемые в русской культуре, соотносятся в текстах пословиц только с мужским началом и выступают как антонимическая пара. Простой в контексте наивной картины мира имеет значение бесхитростный. В книге «Язык и ментальность» В.В. Колесов следующим образом определяет понятие простоты: «Простой - по смыслу слова "открытый" навстречу всем влияниям и зависимый от обстоятельств жизни... Как толкует слово Владимир Даль, «простой - ничем не занятый, сам по себе, не сложный по натуре, но слишком прямой, чтобы сгибаться перед всяким» [32, с. 154-155].
Кабы не боярский разум да не мужичья простота, все бы пропали [28, с. 357].
Группа социально-экономических атрибутивных признаков включает в себя монопризнаки богатства, бедности, патриотизма, которые релевантны только для репрезентации мужского начала. Можно предположить, что явление лакунарности обусловлено тем, что роль женского населения в социально-экономической и политической сферах жизни была несущественной вплоть до начала женского движения в России.
Положительная оценка богатства эксплицируется посредством понятий добра и силы.
Пес космат, ему тепло, а мужик богат, ему ж добро [28, с. 289].
Мужик богатый, как бык рогатый [28, с. 368].
Отрицательная оценка богатства эксплицируется через представления о жадности и жестокости.
Сыта свинья, а все жрет; богат мужик, а все копит [28, с. 44].
Атрибутивный признак бедность связан с понятиями горба и горбатости, указывающими на тяжелый физический труд, непосильную работу.
Мужик не живет богат, а живет горбат [28, с. 237].
В пословицах находит отражение православная концепция царской власти, в рамках которой государь воспринимается как наместник Бога на земле. Мужчина, являясь защитником Отечества, наделяется атрибутивным признаком патриотизма, основанном на служении Богу и государю.
Мужик — Богу свеча, государю слуга [28, с. 360].
Бинарность атрибутивных признаков репрезентирует тесную взаимосвязь, дихотомию гендера. На материале пословиц выявлены следующие признаки, имеющие различную специфику, но характерные и для мужского начала, и для женского начала: внешность, возраст, гастрономические пристрастия, семейная роль, мужская и женская работа, гендерная модель поведения, коммуникативное поведение, жадность, активность, пассивность, трудолюбие, ум, глупость, агрессивность, эмоциональность. Число бинарных атрибутивных признаков - 15, что составляет 58% от общего количества признаков, репрезентирующих мужское начало, и 71% от общего количества признаков, репрезентирующих женское начало.
Монопризнаки манифестируют специфические атрибуты, качества мужского начала и женского начала. К монопризнакам мужского начала относятся: доминирование, здоровье, лень, упрямство, умение приспосабливаться, жестокость, хитрость, простота, богатство, бедность, патриотизм. Выявлено 11 монопризнаков, репрезентирующих мужское начало, что составляет 42% от общего количества признаков. К монопризнакам женского начала относятся: подчинение, ласка, лукавство, греховность, льстивость, лживость. Выявлено шесть монопризнаков, репрезентирующих женское начало, что составляет 29% от общего количества признаков.
Результаты исследования текстов пословиц позволяют определить репрезентацию культурных характеристик мужественности и женственности путём выявления и интерпретации классов атрибутивных признаков, что составляет основу для последующего анализа специфики вербализации гендера в фольклоре, предоставляет возможность выявления национальных моделей мужественности и женственности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Блохина, Н.А. Понятие гендера: становление, основные концепции и представления [Электронный ресурс ]
/ Н.А. Блохина // Летняя школа «Общество и гендер». Рязань, 2003. - (www.gender-
cent.ryazan.ru/blohina.htm).
2. West C. "Doing Gender" / C. West; D.H. Zimmerman // Gender & Society. - 1987. - N 1(2). - Р. 125-151.
3. Lakoff R. Language and Woman's Place / R. Lakoff - New York : Harper & Row, 1975. - 328 p.
4. Goffman E. Gender advertisements / E. Goffman. - New York : Harper & Row, 1976. - 88 p.
5. Goffman E. The Arrangement Between Sexes / E. Goffman // Theory and Society. - 1977. - N 4. -
Р. 301-331.
6. Pusch L. Das Deutsche als Mдnnersprache: Aufsдtze und Glossen zur feministischen Linguistik / L. Pusch. -
Frankfurt am Main : Suhrkamp,1984. - 201 p.
7. Немировский, М.Я. Способы обозначения пола в языках мира [Текст] / М.Я. Немировский // Памяти ака
демика Н.Я. Марра (1854-1934). - М.; Л. : Изд-во АН, 1938. - С. 196-225.
8. Янко-Триницкая, Н.А. Наименования лиц женского пола существительными женского и мужского рода
[Текст] / Н.А. Янко-Триницкая // Развитие словообразования современного русского языка. - М., 1966. -С. 153-167.
9. Китайгородская, М.В. Вариативность в выражении рода существительных при обозначении женщин по
профессии [Текст] / М.В. Китайгородская // Социально-лингвистические исследования / под ред. Л.П. Крысина, Д.Н. Шмелева. - М., 1976. - С. 144-155.
10. Гриценко, Е.С. Язык как средство конструирования гендера : автореф. дис. ... д-ра филол. наук [Текст] / Е.С. Гриценко. - Новгород, 2005. - 48 с.
11. Воронина, О.А. Теория и методология гендерных исследований : курс лекций [Текст] / О. А. Воронина. -М. : МЦГИ - МВШСЭН - МФФ, 2001. - 416 с.
12. Горошко, Е.И. Языковое сознание: гендерная парадигма : монография [Текст] / Е.И. Горошко. - Харьков : Инжек, 2003. - 440 с.
13. Каменская, О.Л. Гендергетика - наука будущего [Текст] / О.Л. Каменская // Гендер как интрига познания. Пилотный выпуск. - М. : Рудомино, 2002. - С. 13-20.
14. Кирилина, А.В. Гендер: лингвистические аспекты [Текст] / А.В. Кирилина. - М., 1999. - 155 с.
15. Телия, В.Н. Русская фразеология. Семантические, прагматические и лингвокультурологические аспекты [Текст] / В.Н. Телия. - М. : Школа «Языки русской культуры», 1996. - 288 с.
16. Томская, М.В. Современное представление женщины в текстах социальной рекламы [Текст] / М.В. Томская // Гендерные отношения в России: История, современное состояние, перспективы : материалы Международной научной конференции. - Иваново, 1999. - С. 76-77.
17. Томская, М.В. Гендерный аспект социального рекламного дискурса [Текст] / М.В. Томская // Гендер: язык, культура, коммуникация : доклады Первой международной конференции. - М., 2001. С. 328-333.
18. Маслова, В.А. Лингвокультурология : учебное пособие для студентов высш. учебн. заведений [Текст] / В.А. Маслова - М. : Академия, 2001. - 208 с.
19. Калугина, Е.Н. Теоретико-методологические основы гендерных исследований в лингвистке: состояние и перспективы [Текст] / Е.Н. Калугина // Филологические науки. Вопросы теории и практики. - Тамбов. - 2013. -№ 7(25). - C. 79-81.
20. Атрощенко, Ю.Ю. Гендерная проблематика современной фольклористики [Текст] / Ю.Ю. Атрощенко // Сборники конференций НИЦ Социосфера. - 2010. - №3. - С. 9-15.
21. Ибрагимова, Л.К. Отражение гендерных отношений в таджикских народных сказках : автореф. дис. ... канд. филолог. наук [Текст] / Л.К. Ибрагимова. - Душанбе, 2004. - 22 с.
22. Савельева, Т.В. Южноуральская частушка в гендерном аспекте [Текст] / Т.В. Савельева // Вестник Челябинского государственного университета. - 2012. - № 6(260). - Вып. 64. - С. 118-121.
23. Шушанян, Н.С. Гендерный стереотип в фольклоре как отражение менталитета народа (на примере былины) [Текст] / Н.С. Шушанян // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 2. Филология и искусствоведение. - 2013. - №2(121). - С. 212-216.
24. Стрекалова, У.С. Семантика гендера в русской языковой картине мира : на материале поговорок : автореф. дис. ... кандид. филолог. наук [Текст] / У.С. Стрекалова. - Калининград, 2011. - 23 с.
25. Закирова, Ю.А. Лингвокультурологические особенности гендерного аспекта в языковой картине мира паремий: на материале русского, английского, немецкого и итальянского языков : автореф. дис. . кандид. филолог. наук [Текст] / Ю.А. Закирова. - М., 2012. - 22 с.
26. Хузина, Э.С. Репрезентация гендерных стереотипов в татарском языке : на материале паремий и авторских афоризмов : автореф. дис. ... кандид. филолог. наук [Текст] / Э.С. Хузина. - Казань, 2012. - 24 с.
27. Сташкова, М.А. Функционирование пословиц и антипословиц с гендерным компонентом в современном английском языке : автореф. дис. ... канд. филолог. наук [Текст] / М.А. Сташкова. - М., 2015. - 22 с.
28. Даль, В.И. Пословицы и поговорки русского народа [Текст] / В.И. Даль. - М. : Эксмо-Пресс, 2000. -606 с.
29. Алефиренко, Н.Ф. Фразеология и паремиология : учеб. пособие [Текст] / Н.Ф. Алефиренко, Н.Н. Семе-ненко. - М. : Флинта; Наука, 2009. - 344 с.
30. Ляшевская, О.Н. Частотный словарь современного русского языка (на материалах Национального корпуса русского языка) [Текст] / О.Н. Ляшевская, С.А. Шаров. - М. : Азбуковник, 2009. - 1190 с.
31. Палаева, И.В. Реконструкция гендерной концептосферы в картине мира среднеанглийского периода : ав-тореф. дис. ... канд. филолог. наук [Текст] / И.В. Палаева. - Владивосток, 2005. - 25 с.
32. Колесов, В.В. Язык и ментальность [Текст] / В.В. Колесов. - СПб. : Петербургское Востоковедение, 2004. - 240 с.
ШКОЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЛЕКСИКИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ: ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ
доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой русского языка, современной русской и зарубежной литературы,
Воронежский государственный педагогический университет
кандидат филологических наук,
методист кафедры педагогики и методики гуманитарного образования,
ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования»
АННОТАЦИЯ. Рассматривается актуальность создания первого в русской учебной лексикографии комплексного школьного словаря русской православной лексики духовно-нравственного содержания. Цель работы - изложение авторской концепции построения названного словаря и характеристика его особенностей, определяемых многоаспектной семантизацией словесных знаков с учетом их семантической двуплановости, свойственной русскому языковому сознанию.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лексика духовно-нравственного содержания, православная лексика, лексикография, школьный словарь, учебный словарь.
Dr. Philolog. Sci., Professor, Head of the Department of Russian Language,
Modern Russian and Foreign Literature,
Voronezh State Pedagogical University
Cand. Philolog. Sci.,
Educational Supervisor of the Department of Pedagogy and Methods of Humanitarian Education,
State Budgetary Educational Institution of Additional Professional Education in Voronezh "The Institute of Education Development"
ABSTRACT. The article is devoted to the problems of creating the first in Russian academic lexicography comprehensive school dictionary of the Russian Orthodox vocabulary of spiritual and moral content. The purpose of the work is to present the authors’ concept of elaborating the named dictionary and to overview its features, determined by multidimensional semantization of verbal signs based on their semantic duality inherent in Russian linguistic consciousness.
KEY WORDS: vocabulary of spiritual and moral content, Orthodox vocabulary, lexicography, school dictionary
learning dictionary.
Как известно, в новейший исторический период (90-е годы XX века - настоящее время) в российском обществе происходят системные разнонаправленные трансформации, оказывающие весьма существенное воздействие на состояние его духовной культуры и состояние русского языка как хранилища духовно-нравственных ценностей русского народа (см., например, работы В.В. Колесова, В.Г. Костомарова, А.Д. Шмелева, Г.Н. Склярев-ской, В.В. Щеулина, О.В. Загоровской, В.М. Шак-леина и др.). При этом наблюдаются процессы снижения уровня духовности российского общества и разрушения многих духовно-нравственных понятий, присущих традиционной русской культуре и отраженных в русской языковой картине мира, которая основана на идеях «сострадания, душевности, милосердия и гуманности, а также особой значимости духовных начал в человеке» [1, c. 134]. Последнее из названных обстоятельств в современной отечественной лингвистике не только отмечается, но и подтверждается результатами специальных исследований, ориентированных на анализ языко-
Информация для связи с автором: olzagor@yandex.ru, lirishechka@mail.ru
вого сознания современных носителей русского языка, прежде всего молодежи (см., например: [2; 3; 4].
Особенности лингвокультурной ситуации в России последних десятилетий и тревожные тенденции, связанные с развитием русского языка в новейший период его истории, обусловили актуализацию проблем учебной лексикографии в отечественной лингвистике и способствовали появлению многих новых практических разработок по названным проблемам в различных российских научных и учебно-научных организациях. Сказанное в полной мере относится к Воронежскому государственному педагогическому университету, в котором на базе входящего в его структуру Регионального центра русского языка вот уже почти два десятилетия ведутся работы по созданию разных типов учебных словарей, ориентированных на изучающих русский язык и как родной, и как иностранный и предназначенных в том числе для школьников (см. об этом: [5; 6; 7; 8]. Основное внимание при этом уделяется культурологической направленности словарей, возможности их применения не только как справочников, но как учебных материалов, использование которых способствует расширению знаний и представлений учащихся о духовной культуре русского народа, отраженной в русской языковой картине мира.
Одной из последних разработок Регионального центра русского языка Воронежского государственного университета, созданных в рамках научной лексикографической школы профессора О.В. Заго-ровской, является концепция комплексного школьного словаря русской православной лексики духовно-нравственного содержания «Русская духовная культура» (СРДКШ), проект которого был представлен в диссертационном исследовании И.С. Шевченко (И.С. Ипполитовой), выполненном в 2016 г.[4, с. 188-208].
В основу работ по созданию СРДКШ были положены два тезиса. Во-первых, несмотря на то, что в современной школьной лексикографии имеются: а) «аспектные» словари, отражающие взаимосвязь русского языка с культурой и историей русского народа (ср., например, школьные этимологические и фразеологические словари, словари устаревших слов); б) энциклопедические словари русской православной культуры (ср., например: [9]); в) словари слов, называющих понятия церковно-богослужебного обихода (ср., например: [10]), - специальных школьных лингвистических словарей, которые включали бы слова, передающие важнейшие понятия русской духовной культуры, в настоящее время не существует.
Данное обстоятельство входит в противоречие, с одной стороны, с требованиями современных государственных стандартов основного общего и среднего общего образования (в соответствии с названными стандартами одной из важнейших задач школьного обучения русскому языку является формирование культурологической компетенции учащихся), а также с социальными и образовательными запросами современного общества, которые определяются особенностями социокультурной ситуации в России первых десятилетий XXI века, характеризующейся снижением уровня духовной культуры носителей русского языка и опасностью ее отрыва от национальных корней. В силу отмеченных причин создание специальных лингвистических словарей русской духовной культуры относится к числу весьма актуальных задач школьной учебной лексикографии. Во-вторых, представляется несомненным, что специальный школьный лингвистический словарь русской духовной культуры должен быть ориентирован прежде всего на отражение православной лексики духовно-нравственного содержания, так как именно названная лексика включает в себя слова, обозначающие центральные понятия нравственной системы ценностей русского народа, которая, как известно, складывалась в глубокой древности под влиянием русской православной духовной культуры, а также в результате взаимодействия православного христианства и древнего славянского мировоззрения; при этом «специфика русской национальной личности во многом определялась и до сих пор определяется именно православной христианской духовностью, которая имеет тысячелетнюю историю развития и, безусловно, отражается в языке» [4, с. 43]. Ср. также мнение С.Ю. Дубровиной о том, что «в истории отечества определение национальной принадлежности "русский" имело синоним "православный" » [11, с. 6].
Основными принципами создания Школьного лингвистического словаря русской духовной культуры (СРДКШ) явились следующие.
1. Названный словарь должен разрабатываться как учебное лексикографическое произведение культурологической направленности, ориентированное на системное и многоаспектное (комплексное) описание русских православных лексических единиц духовно-нравственного содержания и повышение уровня духовно-нравственной культуры учащихся средней школы.
2. Использование СРДКШ должно обеспечивать школьникам возможности: 1) понимать смысловое содержание слов, относящихся к сфере духовнонравственной жизни русского народа; 2) осознавать особенности «культурологического» значения словесных знаков, входящих в русском языке в лексико-семантическое поле «Духовность», и наличие в их плане содержания двух семантических «пластов»: этико-нравственного (светского) и духовнонравственного (религиозного) (о семантической двуплановости русской православной лексики духовнонравственного содержания см.: [12; 13;14; 15; 4]);
3) выделять русские словесные единицы духовнонравственного содержания в речевых произведениях (отдельных высказываниях и текстах) и понимать их семантику в различных видах дискурса светского (например, художественного, публицистического, научного) и дискурса религиозного;
4) осознавать грамматические и стилистические характеристики различных единиц русской православной лексики духовно-нравственного содержания; 5) понимать национально-культурное своеобразие названных словесных знаков и их роль в выражении ключевых идей русской духовной культуры и литературы.
3. Школьный лингвистический словарь русской духовной культуры с необходимостью должен быть автоматизированным и создаваться в компьютерной форме, позволяющей вводить в него любой объем информации, не усложняя при этом работу пользователя, который может получать по запросу только необходимые для него сведения. Подготовку названного словаря целесообразно осуществлять с опорой на современные достижения компьютерной лексикографии и с учетом имеющегося у представителей воронежской лингвистической школы опыта создания компьютерных словарей разных форм существования национального русского языка (ср.: [16; 17]).
4. Концепция семантизации слова в СРДКШ должна создаваться на основе современных достижений в области общей и русской семасиологии, русской лексикологии, общей и учебной лексикографии, лингвокультурологии и компьютерной лексикографии, а также на основе созданных в рамках Воронежской лингвистической школы теоретических концепций структурной организации плана содержания словесного знака [18, с. 52-91], сущности и типологии языковой нормы [19; 20], стилистической значимости русского слова [1, с. 137143; 21].
В настоящее время работа над Школьным словарем русской православной лексики духовнонравственного содержания «Русская духовная культура» (СРДКШ) осуществляется Региональным центром русского языка при Воронежском государственном педагогическом университете совместно с кафедрой педагогики и методики Воронежского института развития образования.
С точки зрения типологических особенностей СРДКШ создается как учебный, одноязычный, комплексный (многоаспектный), дифференцированный, тематический, активный, двуформатный словарь современного русского языка культурологической направленности. Отнесенность названного словаря к разряду учебных определяется его обучающей целевой установкой, возможностью использования в качестве одного из средств обучения, а также включенностью в словарные статьи специальной лексикографической зоны «упражнения». Комплексность (многоаспектность) СРДКШ обусловлена детализированной интерпретацией различных аспектов плана содержания (с учетом всех основных семантических компонентов, составляющих значение слова) и плана выражения заголовочных словесных единиц. Дифференцированный и тематический характер словаря определяется включением в его состав тематически определенного круга языковых знаков - словесных единиц, входящих в лексико-семантическое поле «Духовность». Типологическая характеристика «словарь активного типа» определяется направленностью разрабатываемого лексикографического продукта на активного адресата с целью формирования у него навыков использования (применения) включенных в словарь словесных знаков. Двуформатность СРДКШ обусловлена возможностью его существования как в традиционном бумажном формате (именно такой формат целесообразен для краткого варианта словаря), так и в компьютерном (автоматизированном) формате, способном реализовать достаточно широкий и информационно насыщенный вариант данного словаря.
СРДКШ разрабатывается как совокупность четырех составляющих: Словника, Словарной базы, Текстовой базы и Комплекса лингвистических алгоритмов и программ. Основными составляющими названного словаря являются Словник и Словарная база.
Словник СРДКШ формируется из словесных единиц, отвечающих следующим критериям: 1) отнесенностью к тематической сфере «Православие» и к лексико-семантическому полю «Духовность»; 2) актуальностью для отечественной православной духовно-нравственной культуры; 3) частотностью использования в произведениях русской классической литературы для средней и старшей школы. Отобранные в соответствии с названными критериями словесные знаки оказываются достаточно разнообразными с точки зрения их грамматических, стилистических и генетических характеристик, а также с точки зрения тематической отнесенности. В Словнике названного словаря присутствуют: а) не только существительные (алчность, великодушие, благодеяние, милосердие, гордость, гордыня, жестокосердие и т.п.), но и глаголы (благоговеть, гордиться, любить, гневаться и т.п.), а также причастия, деепричастия, наречия, слова категории состояния (любящий, сострадающий, жертвуя, гордясь, духовно, милостиво, стыдно и т.п.); б) слова исконно русские (вера, гордость, любовь, стыд, честь, корысть, добрый, святой и т.п.) и заимствованные (доблесть, покаяние, целомудрие, благо, патриот, мораль, скромный и т.п.); в) лексика книжная и разговорная, устаревшая и темпо-рально нейтральная (ср., например, книжные, высокие слова: благоговение, благоговейный, благоговеть, всепрощение, устаревшие: алкать, добронравный, разговорные и современные: малодушничать, благоверный и т.п.). (Подробнее об особенностях разных разрядов лексики духовно-нравственного содержания, относящейся к центральной и ядерной частям лексико-семантического поля «Духовность» в русском языке, см.: [4, с. 71-84]).
Характеризуя Словник СРДКШ, следует отметить, что в его составе среди заимствованных лексических единиц, как и следовало ожидать, превалируют слова из старославянского языка, сыгравшего, как хорошо известно, значительную роль в распространении на Руси традиций православного христианства. При этом многие старославянизмы, вошедшие в русский язык в достаточно давние периоды его развития, в современном русском языке, по сути дела, выступают как «слабые инновации», в которых в настоящее время изменилось содержание некоторых стилистических сем: темпоральностилистических, квантитативно-стилистических или даже функционально-стилистических (о содержании названных понятий см.:[18, с. 67-70; 21]) в силу резкого повышения частотности их употребления в современном русском дискурсе и перехода из пассивного языкового запаса в активный (ср., например, словесные знаки: милосердие, покаяние, кротость и т.п.). Названное явление полностью соответствует отмечаемым многими исследователями применительно к новейшему периоду развития русского языка процессам массовой актуализации «старых» заимствований в разных тематических сферах, масштаб которых (названных процессов) не уступает масштабам пополнения русского языка новыми заимствованиями, относящимися к разряду «сильных инноваций» [22, с.184; 23, с. 79-81].
Словарная база разрабатываемого Школьного лингвистического словаря русской духовной культуры представляет собой совокупность его словарных статей. В соответствии с теоретической концепцией словаря структура его словарной статьи включает в себя одиннадцать лексикографических компонентов (зон), в том числе зону заголовочной единицы, зону грамматической информации, зоны эмотивных и стилистических характеристик заголовочного слова, зону семантизации, зоны парадигматических и словообразовательных связей заголовочного словесного знака, зоны контекстов (иллюстраций) и упражнений, а также зоны этимологии и библиографических сведений.
В зоне заголовочной единицы предлагается слово духовно-нравственного содержания, данное в его начальной форме и с ударением. Например: Любовь; Милосердие. В зоне грамматической информации указываются некоторые грамматические характеристики заголовочного слова. Например: Совесть, -и, ж.; Кроткий, -ая, -ое; Грешить, -у, -ишь, нсв. В зоне эмотивных характеристик приводится информация о наличии в семантике заголовочного слова положительной (мелиоративной) или отрицательной (пейоративной) эмоциональной оценки. Например: Терпение. В православном осмыслении -одобр., с положит. оц.; Гордыня - неодобр., с отриц. оц. В зоне стилистических характеристик указываются выраженные стилистические семы, входящие в состав стилистического компонента значения слова, в том числе функционально-стилистические, экспрессивно-стилистические и темпорально-стилистические. Например: Благоволение (доброжелательство, благосклонность) - книжн.; Добронравный (отличающийся хорошим поведением, хорошим нравом) - устар.; Добряк (добрый человек) -разг. В зоне парадигматических связей приводится информация о синонимах и антонимах к заголовочному слову. Например: Терпение. Синонимы: терпеливость, терпимость, снисхождение. Чаша терпения. Антонимы: нетерпение. Стыд. Синонимы -стыдливость, застенчивость, совесть; позор, срам. Антонимы - бесстыдство. Смирение. Синонимы -кротость. Антонимы - гордость, гордыня. В зоне словообразовательных связей - предлагается информация о производных и производящих словесных знаках. Например: Грех: грешить, согрешить, грешн-ый, грешн-ик, греховн-ый, греховн-ость. В зоне этимологии содержится информация о происхождении заголовочных словесных единиц. Например: Сострадание - пришло в русский язык из старославянского языка, в котором «състрадание» стало калькой с греческого стиряОбеш. В зону библиографических сведений включены данные о словарях, содержащих информацию о заголовочном слове, в том числе энциклопедических и лингвистических: толковых, исторических, этимологических, словарях иностранных слов и др.
Специфика словарной статьи СРДКШ в значительной мере определяется содержанием и организацией зоны семантизации, а также зон упражнений и контекстов. Зона семантизации в названном словаре делится на две составляющие: краткая дефиниция и развернутая дефиниция, в каждой из которых представлено две подзоны: первая содержит информацию об этико-нравственном («светском») пласте семантической структуры заголовочного слова, вторая - о духовно-нравственном («религиозном») пласте его семантики. Например: Алчность. Зона «Краткая дефиниция»: (подзона А) — Проявление человеческой жадности; (подзона Б) — Греховное состояние человеческой души, связанное со стремлением к богатству. Зона «Развернутая дефиниция»: (подзона А) — Проявление человеческой жадности. Неумеренная склонность к приобретению материальных благ; (подзона Б) - 1. Стремление к божественной правде, преодолению духовного голода; 2. Греховное состояние человеческой души, связанное со стремлением к богатству и наживе. В православной картине мира алчность - одна из восьми греховных страстей. (Подробнее о семантизации слов в СРДКШ см.: [4, с. 196-197]). В зоне контекстов содержатся иллюстрации употребления заголовочных слов, извлеченные из произведений русской классической литературы и специальной литературы религиозно-культурологического характера, позволяющие пользователю осознать глубинные духовные составляющие русской православной лексики духовно-нравственного содержания и ее семантическую двуплановость. В зоне упражнений представлены упражнения и задания разных типов, направленные на отработку навыков восприятия и употребления школьниками русской православной лексики духовно-нравственного содержания с учетом ее семантической двуплановости (подобные задания могут быть ориентированы, например, на определение «культурологического» значения слова, восходящего к традициям русского православия, в предложенном текстовом фрагменте; на нахождение духовно-нравственного плана семантики; на подбор синонимов к данному слову с учетом его семантической двуплановости, свойственной русской православной культуре, и т.д.).
Очевидно, что создание Словаря русской православной лексики духовно-нравственного содержания для школьников представляет собой весьма непростую задачу. Однако несомненно и то, что его подготовка и использование будут способствовать не только повышению качества школьного образования в области русского языка, но и повышению уровня духовной культуры российской молодежи, а также способно противодействовать опасным тенденциям «девальвации ценностных ориентаций, идеалов и нравственных норм» в российском обществе, утраты многими россиянами представлений о «позитивных нравственных ценностях» [24, с. 179-180].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Загоровская, О.В. Русский язык на рубеже XX-XXI веков: Исследования по социолингвистике и лингвокультурологии [Текст] / О.В. Загоровская. - Воронеж : Научная книга, 2013. - 232 с.
2. Ситникова, О.В. Лексика морально-нравственного содержания в русском языке новейшего периода и ее отражение в языковом сознании современных носителей русского языка : дис. ... канд. филол. наук [Текст] / О.В. Ситникова. - Воронеж, 2009. - 238 с.
3. Матей, И.К. Православная лексика в современном русском языке и языковом сознании его носителей: дис. ... канд. филол. наук [Текст] / И.К. Матей. - Воронеж, 2012. - 185 с.
4. Шевченко, И.С. Православная лексика духовно-нравственного содержания: семасиологический и лексикографический аспекты : дис. ... канд. филол. наук [Текст] / И.С. Шевченко. - Воронеж, 2016. - 283 с.
5. Загоровская, О.В. Принципы создания комплексного русско-арабского словаря литературоведческих терминов для иракских филологов-русистов [Текст] / О.В. Загоровская, Гадах Тарек Сабри // Вестник ВГУ. Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация. - Воронеж, 2011. - Вып. 2. - С. 89-94.
6. Загоровская, О.В. Возможности семантизации русского слова в современном многоаспектном учебном словаре для изучающих русский язык как неродной [Текст] / О.В. Загоровская // Известия ВГПУ. - 2015. - №4(269). -С. 121-124.
7. Загоровская, О.В. Вариантность нормы в русском языке начала XXI века и задачи создания современного учебного нормативно-стилистического словаря [Текст] /О.В. Загоровская // Известия ВГПУ. - 2015. -№1(266). - С. 184-190.
8. Загоровская, О.В. О задачах создания и концепции современного школьного нормативно-стилистического словаря синонимов русского языка [Текст] /О.В. Загоровская, С.И. Маликовская // Известия ВГПУ. -2017. - №1(374). - С. 157-160.
9. Давыдова, Н.В. Православная культура. Словарь-справочник школьника [Текст] / Н.В. Давыдова. - М. : ПРО-ПРЕСС, 2008. - 480 с.
10. Андреева, И.В. Словарь православной лексики в русской литературе XIX-XX вв. [Текст] / И.В. Андреева, Н.В. Баско. - М. : Сретенский монастырь, 2012. - 272 с.
11. Дубровина, С.Ю. Состав и системная адаптация лексики православия в русских диалектах (на материале
тамбовских говоров) : монография [Текст] / С.Ю. Дубровина. - Тамбов, 2012. -
213 с.
12. Гольберг, И.М. Религиозно-проповеднический стиль современного русского литературного языка: моральные концепты : дис. ... канд. филол. наук [Текст] / И.М. Гольберг. - М., 2002. - 157 с.
13. Загоровская, О.В. Семантическая многоплановость слова «совесть» в русском языке и русской духовной культуре (по данным лингвистических и энциклопедических словарей и справочников) [Текст] / О.В. За-горовская, И.С. Шевченко // Филологические науки. Вопросы теории и практики. - Тамбов : Грамота, 2014. - №10(40). - Ч. II. - С. 54-58.
14. Загоровская, О.В. О семантических особенностях лексики тематической сферы «Православие» в современном русском языке [Текст] / О.В. Загоровская, И.К. Матей // Русский язык в диалоге культур : материалы Междунар. науч. конф. : в 3-х ч. / науч. ред. Л.В. Ковалева. - Воронеж : Воронеж. гос. арх.-строит. ун-т, 2010. - Ч. 1. - С. 220-224.
15. Шевченко, И.С. О семантической многоплановости слова «любовь» в русском языке и русской духовной культуре [Текст] / И.С. Шевченко // Филологические науки. Вопросы теории и практики. - Тамбов : Грамота, 2015. - №6(48). - Ч. I. - С. 209-212.
16. Загоровская, О.В. Становление диалектной компьютерной лексикографии в отечественной лингвистике [Текст] / О.В. Загоровская // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2012. - №1. - С. 10-17.
17. Загоровская, О.В. Принципы создания и формальная грамматика многокомпонентного автоматизированного словаря номинаций лиц в воронежских говорах [Текст] / О.В. Загоровская, Т.А. Литвинова // Известия ВГПУ. - 2015. - №3(268). - С. 115-121.
18. Загоровская, О.В. Проблемы общей и диалектной семасиологии и лексикографии : монография [Текст] /
О.В. Загоровская. - Воронеж : Научная книга, 2011. - 383 с.
19. Загоровская, О.В. Языковая норма и норма литературного языка как лингвистические понятия [Текст] / О.В. Загоровская // Известия ВГПУ. - 2016. - Т. 271. - №2. - С. 161-165.
20. Загоровская, О.В. Нормы русского литературного языка: Типология и основания для классификации [Текст] / О.В. Загоровская // Известия ВГПУ. - 2016. №3(272). - С. 129-134.
21. Бирюкова, Е.Д. Стилистический компонент значения русского слова и его составляющие [Текст] / Е.Д. Бирюкова // Известия ВГПУ. - 2017. - №1(274). - С. 151-156.
22. Крысин, Л.П. Русское слово, свое и чужое: исследования по современному русскому языку и социолингвистике [Текст] / Л.П. Крысин. - М. : Языки славянской культуры, 2004. - 888 с.
23. Загоровская, О.В. Об иноязычных заимствованиях в политической лексике русского языка [Текст] / О.В. Загоровская, С.А. Есмаеел // Вестник ВГУ. Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация. - Воронеж, 2008. - Вып. 3. - С. 74-82.
24. Шаклеин, В.М. Лингвокультурология. Традиции и инновации [Текст] / В.М. Шаклеин. - М. : Флинта, 2012. - 301 с.
СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖАРГОНИЗМОВ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕМАТИКИ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ДИСКУРСЕ
МАКСИМОВ Илья Муратович,
соискатель кафедры русского языка, современной русской и зарубежной литературы,
Воронежский государственный педагогический университет
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблемам функционирования субстандартной лексики в современном русском языке. Предметом исследования являются жаргонизмы автомобильной тематики, которые впервые рассматриваются с точки зрения их социальных характеристик. Выявлены социальные группы носителей русского языка, использующих данные жаргонизмы. Доказано, что функционирование автомобильных жаргонизмов в современном русском дискурсе не ограничивается профессиональной сферой, что подтверждает активность процессов стилистического снижения современного русского дискурса. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: специальная лексика, жаргонизм, профессиональный жаргонизм, ^циальная группа, дискурс, корпус текстов, стилистическая норма.
MAKSIMOV I. M.,
Postgraduate Student of the Department of Russian Language, Modern Russian and Foreign Literature, Voronezh State Pedagogical University
SOCIAL ASPECT OF JARGONISMS USAGE OF THE AUTOMOTIVE GLOSSARY IN MODERN RUSSIAN DISCOURSE
ABSTRACT. The article is devoted to problems of substandard vocabulary functioning in the modern Russian language. The subject of the study is jargon words of automotive glossary, which are first considered in terms of their social characteristics. Social groups of native Russian speakers that use these jargon words are identified. It is proved that automobile jargon circulation in modern Russian discourse is not confined to the professional sphere, which confirms the activity of the processes of stylistic decline in modern Russian discourse.
KEY WORDS: special vocabulary, jargon word, professional slang word, social group, discourse, corpus, stylistic norm.
В современных условиях бурного развития науки и техники в лингвистике значительно возрастает интерес к изучению специальной лексики. Сказанное касается как теоретических вопросов организации соответствующих лексических подсистем и типологии составляющих их единиц, так и вопросов, связанных с выявлением, описанием и систематизацией словесных знаков той или иной научно-технической отрасли. В число специальных лексических подсистем современного русского языка, которые привлекают внимание исследователей, в последнее время входит и лексикосемантическое поле «Автомобильный транспорт», в составе которого (как и в составе любого лексикосемантического объединения специальных словесных знаков) может быть разграничена стандартная (термины и номены) и субстандартная (профессионализмы и профессиональные жаргонизмы) лексика [1, с. 36-53].
Как показывает анализ, в современной научной литературе имеются отдельные работы, посвященные русской субстандартной лексике автолюбителей [2; 3; 4]. Однако подобные научные труды ориентированы в основном на анализ структурно-семантических особенностей жаргонных номинаций, способов их образования, этимологии, а также на выявление их национально-культурных особенностей.
Вопросы же функционирования названной лексики в речи современных носителей русского языка остаются вне поля зрения исследователей.
Предметом настоящей статьи являются жаргонизмы автомобильной тематики как единицы современного русского дискурса. Цель исследования, результаты которого представлены в настоящей работе, состояла в определении социальных характеристик использования названных субстандартных единиц в современном русском дискурсе.
Методологическую базу проведенного исследования составили научные труды по общей и русской лексикологии, терминологии и социолингвистике А.В. Суперанской, С.Д. Шелова, С.В. Гринева-Гриневича, В.Н. Прохоровой, Л.П. Крысина, О.В. Загоровской, Т.Н. Даньковой. Жаргон автомобильной тематики мы рассматриваем как одну из типологических разновидностей нелитературной формы существования национального русского языка, выделяемой наряду с просторечием и народными говорами (о типологических разновидностях современного национального русского языка см.: [5]), как один из видов корпоративного жаргона, используемого в общении лиц, объединенных профессионально-производственным (служебным) или профессионально-любительским (частным) интересом к автомобильному транспорту. Мы также счи-
Информация для связи с автором: sviridovich.59@mail.ru
таем возможным рассматривать автомобильный жаргон как одну из составляющих социолекта водителей автотранспортных средств (о понятии «социолект» см.: [6]).
Жаргонизмы анализируемой тематики понимаются в настоящем исследовании как часть субстандартной лексики социолекта автомобилистов (профессионалов и любителей), которая противостоит терминологической и номенклатурной лексике и включает в себя профессионализмы и профессиональные жаргонизмы. Профессиональные жаргонизмы, которые в научной лингвистической литературе выделяются далеко не всеми исследователями как особое лингвистическое явление, отличное от профессионализмов [7; 8, с. 522] и понимаются весьма неоднозначно (см. об этом: [1, с. 52; 9, с. 146]), мы трактуем как неофициальные сниженные и экспрессивные обозначения понятий, предметов специального характера, бытующие в разговорной речи людей, объединенных по профессиональному признаку. Такого рода жаргонизмы могут частично дублировать терминологию профессиональной сферы и быть синонимичными ей, но «они не выражают научных понятий и не образуют системы понятий» [10, с. 365]. К типологическим характеристикам профессиональных жаргонизмов, по нашему мнению, относятся их отчетливая стилистическая сниженность и наличие в семантике эмоционально-оценочных составляющих, которые определяют их особую экспрессивность. Ср.: «Думается, что именно экспрессивность, трактуемая как собственно языковое явление, базирующееся на оценочности и образности <...>, может рассматриваться как основной отличительный признак профессиональных жаргонизмов, который отграничивает их от собственно профессионализмов.» [9, с. 146].
Наблюдения за живой речью современных носителей русского языка, представленной в разных сферах и ситуациях общения, в том числе наблюдения за так называемой «естественной письменной речью», функционирующей в сфере интернеткоммуникации, показали, что жаргонизмы автомобильной тематики широко используются в современном русском дискурсе не только профессионалами, специалистами в сфере производства автомобильного транспорта, его эксплуатации и обслуживания, ремонта и торговли, но также достаточно широким кругом других лиц, относящихся к самым разным категориям и социальным группам: автомобилисты-любители; люди, имеющие родственные или дружеские отношения с автомобили-стами-профессионалами или автомобилистами-любителями или просто интересующимся автомобильным транспортом. При этом было обнаружено, что анализируемые жаргонизмы достаточно широко употребляются носителями русского языка не только в условиях профессионального общения (например, в условиях производства или ремонта автомобильного транспорта), но и в иных сферах.
Для выяснения особенностей использования автомобильных жаргонизмов в речи представителей разных социальных групп был проведен анализ языкового материала, собранного с помощью полевого метода и психолингвистических методов целенаправленного интервьюирования и анкетирования респондентов. Фактическая база исследования включала в себя следующие языковые данные:
1) полевые записи живой разговорной речи автомо-билистов-профессионалов и автомобилистов-люби-телей (сбор полевого материала проводился в 20152016 гг.); 2) записи «естественной письменной речи» автомобилистов, представленные в социальных сетях на специальных форумах, и записи «спровоцированных» автором данного исследования текстов в интернет-общении; 3) материалы целенаправленного интервьюирования респондентов в процессе живого общения и интернет-общения; 4) материалы анкетирования респондентов по специальному вопроснику.
Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе по результатам анализа полевого материала и записей «естественной письменной речи» автомобилистов был сформирован рабочий корпус текстов (текстовая база), из которого в дальнейшем было отобрано 100 лексических единиц, относящихся к разряду жаргонизмов автомобильной сферы, характеризующихся высокой частотностью употребления и представляющих различные тематические группы исследуемых номинаций. На втором этапе проводилось целенаправленное интервьюирование и анкетирование респондентов с целью определения знания ими значений выделенных жаргонизмов, а также характера и сфер использования данных языковых единиц в современном русском дискурсе.
Подготовленный корпус текстов включал в себя фрагменты живой разговорной или «естественной письменной речи» автомобилистов с информацией справочного характера о социальных характеристиках репродуцентов текстов: их гендерной принадлежности, возрасте, образовании и его профиле, месте работы или учебы (должности или специальности), водительском стаже. Безусловно, полным набором названных характеристик сопровождались лишь тексты, представляющие живую устную речь респондентов и полученные методом полевого сбора материала. В текстах из интернет-коммуникации социальные характеристики респондентов, как правило, были представлены фрагментарно. Ср., некоторые материалы, включенные в названный корпус текстов: «Если уж совсем сел на пузо и никого вокруг, чтоб вытолкнуть, попробуй тросом колесо обвязать, если диски — литьё, то его и вязать удобно будет» (мужчина, 46 лет; образование среднее техническое; автомастерская; водительский стаж - 26 лет); «Зря ты свечи прокалить хотел. Они же испортятся: язычок прогорит, а шток из керамической головы вылезет, и всё - выкидывать только.» (мужчина, 36 лет; образование высшее техническое; автосервис; водительский стаж - 14 лет); «Я, наверное, когда выбиралась из своей авоськи, ногой шайбу включения света задела. Хорошо, что вернуться успела, пока аккумулятор не сел» (женщина, 24 года; образование высшее экономическое; бухгалтер; водительский стаж - 3 года); «Мы на завороте притерлись, теперь красить надо, а еще, может, гитару посмотрите: что-то в ней . я не понимаю»; «Там всякие были: джипари, лёхи, авоськи.» (женщина, 22 года; образование высшее гуманитарное; дизайнер; водительский стаж - 1 год).
В состав отобранных для психолингвистического эксперимента жаргонизмов (выявленных по результатам анализа текстового корпуса) были включены языковые знаки, обозначающие: а) марки автомобилей (авоська - автомобиль марки Audi, серии Audi А8; яйцо - автомобиль марки Toyota; джипарь - автомобиль марки Jeep; лёха — автомобиль марки Lexus и др.); б) детали, технические узлы автомобильных транспортных средств и их комплектующие (ёжик — внутренняя часть впускного коллектора на двигателях автомобилей марки Volkswagen производства 80-90-х годов XX в.; лопухи - низкопрофильные покрышки; яйца — рычаги задней подвески на автомобилях Ford Focus 1-го поколения; кенгурятник - металлическая жесткая дуга, укрепленная перед бампером; лыжи - продольные лаги на крыше автомобиля, служащие для крепления багажника; клюв - решетка радиатора; литьё -легкосплавные литые диски; гитара - рычаг передней подвески и т.п.); в) ситуации на дорогах (притереться — допустить столкновение автомобилей боковыми частями кузова; тошнить — медленно двигаться в пробке) и др. В материалы для анкетирования были включены также номинации: аквариум, барабаны, бублик, бункер, вёсла, гвозди, жабры, каблук, калитка, китовый ус, клюшка, колокол, костыль, кочерга, листва, лентяйчик, луковица, мозги, наркоманка, НЛО, ресницы, рогатка, телепузик, утиный хвост, хлопушка, шуба, яблоко и др.
В психолингвистическом эксперименте (интервьюировании и анкетировании) приняли участие 328 человек, в том числе 50% мужчин и 50% женщин. В анкетах фиксировались те же социальные данные респондентов, которые включались в текстовый корпус: пол, возраст, образование, место работы или учебы, водительский стаж. Респондентам предлагалось определить значения предложенных жаргонизмов, а также указать, часто ли они используют данные лексемы в своей речи и в каких ситуациях. Эталонные значения жаргонизмов определялись на основе данных общих словарей русского жаргона и представленных в Интернете словариков и справочников профессиональной и жаргонной лексики автомобильной сферы.
Анализ полученных материалов интервьюирования и анкетирования респондентов с учетом двух критериев: а) характера использования ими автомобильных жаргонизмов (высокая, средняя или низкая частотность употребления данных языковых знаков; множественность или единичность ситуаций общения, в которых используются указанные жаргонизмы) и б) уровня знания респондентами значений автомобильных жаргонизмов - позволил выделить пять групп носителей русского языка, употребляющих автомобильные жаргонизмы в речи:
1) лица, активно владеющие исследуемой субстандартной лексикой, знающие ее семантику и использующие автомобильные жаргонизмы в разных ситуациях общения: как профессиональных, так и непрофессиональных;
2) лица, стремящиеся к активному владению исследуемой субстандартной лексикой, использующие ее в разных сферах общения и достаточно хорошо, хотя и не в полной мере, знающие ее семантику;
3) лица, характеризующиеся невысоким уровнем владения анализируемыми жаргонизмами, но стремящиеся к получению информации об их семантике и к их активному использованию в разных сферах общения;
4) лица, характеризующиеся невысоким уровнем владения анализируемыми жаргонизмами, использующие их по необходимости лишь в некоторых коммуникативных ситуациях и не стремящиеся к расширению своей компетентности в данной сфере;
5) лица с минимальным уровнем владения автомобильными жаргонизмами, имеющие небольшой объем информации об их значениях и практически не использующие их в собственной речи.
К первой группе относятся, как правило, мужчины разного возраста, имеющие высшее или среднее техническое образование и связанные с автомобильным транспортом по роду своей профессиональной деятельности (работающие на станциях технического обслуживания автомобилей, в системе автосервиса и т.п.). Жаргонизмы автомобильной тематики для названных лиц выступают в функции профессиональных языковых знаков.
Вторую группу также составляют мужчины разных возрастов, но, как правило, не имеющие специального технического образования и по роду своей деятельности не связанные с автомобильной сферой: студенты вузов и училищ, менеджеры, юристы, экономисты, дизайнеры и т.п. Представители данной группы искренне интересуются автомобилями, хотят быть более компетентными в данной области и именно поэтому широко используют автомобильные жаргонизмы в различных коммуникативных ситуациях.
В третью группу входят в основном женщины молодого возраста (до 30 лет) с разным уровнем и профилем образования, по роду своей деятельности также не связанные с автомобильной сферой и имеющие небольшой водительский стаж. Представители данной группы проявляют интерес к автомобильным жаргонизмам и стремятся к более активному их использованию в различных коммуникативных ситуациях, прежде всего с целью установления контактов с другими автомобилистами, преимущественно мужчинами.
К четвертой группе относятся женщины более старшего возраста (от 30-ти лет) разного уровня и профиля образования, по роду своей деятельности также не связанные с автомобильной сферой, имеющие при этом достаточный водительский стаж, но не проявляющие активного интереса к автомобильной тематике и использующие исследуемую лексику в силу необходимости эксплуатации личного автотранспорта.
В пятую группу респондентов входят как мужчины, так и женщины разных возрастов, имеющие, как правило, высшее образование, но абсолютно не интересующиеся лексикой автомобильной тематики, в том числе жаргонной, не стремящиеся к расширению своей компетентности в данной области и практически не употребляющие автомобильные жаргонизмы. Их знания в области названной лексики минимальны.
Выделенные в процессе исследования группы респондентов оказались весьма неравнозначными в количественном отношении: представители первой группы составили 15% от всего числа опрошенных; представители второй группы - 42%; представители третьей группы - 17%; представители четвертой группы - 19%; пятой группы - 7% от всего количества опрошенных. Наиболее крупными, таким образом, оказались вторая и четвертая группы респондентов, включающие лиц, стремящихся к активному использованию автомобильных жаргонизмов в различных видах дискурса.
Проведенное исследование позволяет сделать два основных вывода. Во-первых, социальные характеристики современных носителей русского языка (гендер, возраст, характер образования, сфера профессиональной деятельности и личные интересы) в значительной мере влияют на характер и частотность использования жаргонизмов автомобильной тематики в разных видах дискурса, при этом особенно значимой оказывается личная заинтересованность носителей языка в овладении названными языковыми знаками и их использовании.
Во-вторых, применительно к современной языковой ситуации представляется возможным говорить о повышении активности употребления автомобильных жаргонизмов представителями различных социальных групп носителей русского языка, в том числе не связанных профессионально с автомобильной сферой. Данный вывод подтверждает мнение современных лингвистов об усиливающейся жаргонизации русского языка, которую следует рассматривать в одном ряду с такими тревожными тенденциями его развития на рубеже XX-XXI веков, как общее стилистическое снижение русской речи, разрушение традиционной для русского языкового сознания семантической двуплановости слов духовно-нравственного содержания [11], вестернизация русского языка, проявляющаяся не только в массовости новых иноязычных заимствований из «западных» языков (прежде всего американского варианта английского языка), но и в актуализации многих «старых» иноязычных заимствований (см. об этом применительно к лексике политической сферы [12]), общее снижение речевой культуры современных носителей русского языка и массовые нарушения норм русского литературного словоупотребления, которые представляют собой совокупности «наиболее пригодных и предпочтительных» для тех или иных сфер и ситуаций общения языковых средств, воспринимаемых носителями языка в качестве «образцовых» [13, с. 164].
Вместе с тем несомненно, что повышение частотности использования жаргонной лексики разными социальными группами населения России представляет собой объективную данность современного языкового развития (см. работы Е.А. Земской, Л.П. Крысина, В.Г. Костомарова, Н.С. Валгиной, О.В. Загоровской, И.А. Стернина и др.) и современной лингвокультурной ситуации, для которой характерны «массовый приток в литературный язык просторечий и жаргонизмов» и «повышение функциональной значимости» названных единиц в различных сферах и ситуациях общения [14, с. 14]. Отмеченное обстоятельство обусловливает необходимость проведения целенаправленной работы по повышению культуры русской речи современных носителей русского языка и формированию у них правильных представлений и о нормах русского литературного языка в целом, и о стилистических нормах русского литературного словоупотребления, которые регулируют уместность или неуместность использования тех или иных языковых знаков в разных видах дискурса в соответствии со стилистическими характеристиками данных словесных единиц и содержанием их стилистических сем, в том числе нормативно-стилистических и дискурсивностилистических (о названных понятиях см.: [15; 16, с. 153-155]).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Загоровская, О.В. Термин и терминология [Текст] / О.В. Загоровская, Т.Н. Данькова. - Воронеж : Научная книга, 2011. - 383 с.
2. Шакирова, З.И. Состав и структура профессионального некодифицированного подъязыка водителей автотранспорта [Текст] / З.И. Шакирова // Вестник Пятигорского государстве лингвистического университета.
- 2012. - Вып. 1. - С. 26-29.
3. Максимов, И.М. Профессиональная лексика сферы автомобильного транспорта в современном русском языке как объект лексикографии [Текст] / И.М. Максимов // Современная языковая ситуация и совершенствование подготовки учителей-словесников : материалы Х Международной научно-методической конференции / под ред. О.В. Загоровской. - Воронеж : Научная книга, 2014. - Ч. I. - С. 73-77.
4. Шакирова, З.И. Лингвокультурный потенциал моделируемости единиц социолекта (на материале русского и английского социолектов водителей автотранспорта : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.20 [Текст] / З.И. Шакирова. - Казань, 2016. - 24 с.
5. Загоровская, О.В. Типологические разновидности национального русского языка и формы его существования в начале XXI века [Текст] / О.В. Загоровская // Известия ВГПУ. - 2015. - №3(268). - С. 96-101 .
6. Беликов, В.И. Социолингвистика : учебник для вузов [Текст] / В.И. Беликов, Л.П. Крысин. - М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. - 439 с.
7. Шелов, С.Д. Термин. Терминологичность. Терминологические определения [Текст] / С.Д. Шелов. - СПб. : СПбГУ, 2003. - 280 с.
8. Культура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник [Текст] / под ред. Л.Ю. Иванова [и др.].
- М. : Флинта; Наука, 2003. - 840 с.
9. Ревякина, Т.Л. Термины, профессионализмы и профессиональные жаргонизмы в ряду специальных номинаций [Текст] / Т.Л. Ревякина // Известия ВГПУ. - 2017. - №1(274). - С. 143-146.
10. Жеребило, Т.В. Словарь лингвистических терминов [Текст] / Т.В. Жеребило. - Назрань : Пилигрим, 2010.
- 486 с.
11. Загоровская, О.В. Семантическая многоплановость слова «совесть» в русском языке и русской духовной культуре (по данным лингвистических и энциклопедических словарей и справочников) [Текст] / О.В. За-горовская, И.С. Шевченко // Филологические науки. Вопросы теории и практики. - Тамбов : Грамота, 2014. - №10(40). - Ч. II. - С. 54-58.
12. Загоровская, О.В. Об иноязычных заимствованиях в политической лексике русского языка [Текст] /
О.В. Загоровская, С.А. Есмаеел // Вестник ВГУ. Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация. -Воронеж, 2008. - Вып. 3. - С. 74-82.
13. Загоровская, О.В. Языковая норма и норма литературного языка как лингвистические понятия [Текст] / О.В. Загоровская // Известия ВГПУ. - 2016. - №2(271). - С. 161-165.
14. Загоровская, О.В.Русский язык на рубеже XX-XXI веков: исследования по социолингвистике и лингвокультурологии : монография [Текст] / О.В. Загоровская. - Воронеж : Научная книга, 2013. - 232 с.
15. Загоровская, О.В. Нормы русского литературного языка: Типология и основания для классификации [Текст] / О.В. Загоровская // Известия ВГПУ. - 2016. - №3(272). - С. 121-126.
16. Бирюкова, Е.Д. Стилистический компонент значения русского слова и его составляющие [Текст] / Е.Д. Бирюкова // Известия ВГПУ. - 2017. - №1(274). - С. 151-156.
ИДЕАЛЬНАЯ МУЧЕНИЦА ИЛИ ГРЕШНИЦА (образ девочки в произведениях А.М. Ремизова)
аспирант кафедры литературы филологического факультета,
Вологодский государственный университет
АННОТАЦИЯ. Рассматриваются образы девочек в произведениях А.М. Ремизова. Писатель, сравнивая этот образ с образом мальчика, подчеркивает в своих героинях нравственную силу, чистоту, цельность. Анализ персонажей-девочек в произведениях Ремизова помогает понять особенности мировосприятия автора и социальные процессы, происходящие в русском обществе на рубеже XIX-XX вв. Делаются выводы о том, что в произведениях писателя образ девочки - чаще всего образ греха, над нею сотворенного, образ вселенской беды, совести, долга. Также девочка - это недостижимый идеал, предвестник несчастья. Портрет ремизовской героини многолик.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образ девочки, героиня, недоступный идеал, жертвенность, А.М. Ремизов. ZHERNOVA N.S.,
Postgraduate Student of the Department of Literature,
Vologda State University
ABSTRACT. The article deals with the images of girls in A.M. Remizov s works. The writer, comparing this image with the boy’s one, emphasizes moral strength, purity, and integrity in his heroines. Analysis of the girl characters in the books by Remizov helps to perceive the peculiarities of his world perception and social processes taking place in Russian society at the turn of the XIX-XX centuries. Conclusions are drawn that in the writer's works the image of a girl is more often the image of sin over her committed, the image of the universal misfortune, conscience, duty. The girl is also an unattainable ideal, a harbinger of misfortune. The image of Remizov s heroine has many faces.
KEY WORDS: girls image, the heroine, unattainable ideal, sacrifice, A.M. Remizov.
Тема семьи - важная тема русской и зарубежной литературы всех времен. Для классической русской литературы семья - это нравственная основа человеческого бытия. «Мысль семейная» прослеживается в большей части произведений XIX века. Трагический XX век (ссылки, бунты, войны) внес свои коррективы в восприятие этой темы. Революция практически полностью изменила систему нравственных, моральных ценностей общества, подорвала семейные основы, разрушила семьи. В связи с этим важным становится образ ребенка, отчужденного, ненужного.
Для А.М. Ремизова чаще главными персонажами являются герои-мужчины. Они несут авторскую правду, мировоззрение, часто в них угадывается сам писатель. Однако автор в своих произведениях рисует и целую галерею женских образов: страдалиц и жертв, воинственных и падших. Его героини одиноки, их участь символизирует не только личное страдание, но и «страды мира» - универсальное унижение и оскорбление человека человеком [1, с. 45]. Нередко в произведениях появляются и дети -чаще мальчики, девочки играют второстепенные роли. Но второстепенность - не значит неважность.
Цель нашей работы - выявить важность образа девочки в произведениях А.М. Ремизова; определить значения данного образа; сопоставить его с образом мальчика; обозначить причины различий.
В 1904 г. у писателя родилась дочь Наташа, которая была отдана на воспитание в семью жены из-за серьезных материальных затруднений Ремизовых. Алексею Михайловичу так и не удалось вернуть дочь в семью, а эмиграция разлучила супругов с ней навсегда. Эта трагедия будет с Ремизовым всю жизнь.
Как показывает анализ творчества писателя, девочка, вечная девочка - это образ вселенской беды, образ греха, над нею сотворенного, образ совести. Также девочка - недостижимый идеал. Изначальная Вечная Женственность - самоотверженность, жертвенность, долготерепение - весьма характерна для русской литературы символистской эпохи, и особенно для А.М.Ремизова. В его «мученицах», «падших», «сестрах усердных», «странницах», несущих в себе Любовь, Мудрость, Прекрасное, проступает Божественное начало.
Образ девочки у Ремизова часто появляется как предвестник беды, несчастья. Так мальчик Костя из повести «Часы» видит сон про свою младшую сестру - гимназистку Катю, в котором она пеняет ему, что он подобрал ей гроб не по размеру. Катя обречена на страдание. Не случайно автор выбирает героине такое имя: Екатерина - «чистая, непорочная».
В самом начале создается впечатление, что кто-то наблюдает за ней: «Пришла Катя, задумчивая, утомленная, отщипнула хлеба, подошла к зеркалу,
Информация для связи с автором: natu51@yandex.ru
посмотрелась так, будто кто смотрел на нее, -запечалилась» [2, с. 22]. Образ черных часов как символ смерти преследует ее на протяжении всего повествования: «Катя прислушивалась к часикам, ей все казалось, она могла бы по этим чуть внятным звукам, по этим чуть брезжущим голоскам, пробраться в какую-то такую глубь и там все увидеть. Они ее примут. Они возьмут. Они поведут ее» [2, с. 25]. Девушка мечтает о смерти как избавлении от ужаса и скорби мира, и смерть забирает ее. Катя видит во сне «незнакомую женщину, покрытую покрывалом», «сиделку». Это и есть смерть, которая говорит, что «там» не будет времени, часов. Она разбивает «черные Катины часики», забирает несложившуюся мрачную жизнь. Автор откровенно жалеет героиню: «Бедная, милая Катя. Несчастная девушка, не сказавшая своих тайных горячих слов, не излившая сердце, свое сердце» [2, с. 66]. Она - определенно героиня-страдалица, в конце своей жизни приближается к мученицам с иконы: «Большие глаза были слишком духовны, не было в них ни капельки крови, и чернелись на обтянутой коже брови, как две черные стрелки, и вся она была какой-то чужой, не прежней» [2, с. 66]. Для нее больше нет прошлого: любви, привязанностей, ее больше ничего не держит в этом мире: «Она ничего не хотела, ее ничего не влекло. <..> Не помнила вчерашних дней. А ведь еще недавно так любила крепкую белую зиму, еще недавно так любила...» [2, с. 66-67].
Наряду с несчастной Катиной судьбой автор не раз подчеркивает уродство Кости Клочкова, рисует его борьбу со временем, часами, и важным становится образ еще одной героини - Лидочки Лисицыной. Она второстепенный персонаж, но играет не последнюю роль в повествовании: несомненно, что Костя немало страдает из-за своего влечения к ней и из-за ее неприятия. «Есть и другие барышни, но не влечет меня, - объясняется Костя, - я не говорю с ней: дар слова теряется, так хороша она, лучше нее и не может быть на свете» [2, с. 49]. Е. Горный считает, что «жажда вселенского преображения и жажда сексуального удовлетворения сливаются здесь воедино: "... часы по-прежнему идут, как шли вчера и сегодня, по-прежнему всякий смеется над ним, а Лидочка Лисицына так же далека от него, как и раньше"» [3, с. 197]. И даже приворот лягушачьей лапкой не помогает. Костя - урод, у него кривой нос, а у Лидочки - сахарновыточенный носик, для Кости она недосягаемый идеал: «Ловила протянутая рука Кости маленькую ручку, но ручка, насмехаясь, увертывалась» [2, с. 14]. Окончательно потеряв ум, «избавив» людей от часов, Костя воображает себя то конем, то учителем и сыщиком в бобровой шапке, атласной шубе и с носом, как на картинке. Он бежит к любимой Лидочке: «Изогнулся весь, нащупал присевшую Лидочку, вытянул ее и, притянув к себе, впился губами, и целовал в губы и щеки, целовал взасос, присвистывая, причмокивая, приговаривая, и вдруг, широко разинув рот, закусил ее сахарно-выточенный носик...» [2, с. 88]. Костя пытается избавиться от чувства неполноценности, изуродовав любимую девушку, изнасиловав тело и душу, но не чувствует удовлетворения, снова страдает.
Здесь, как и в других книгах А.М. Ремизова, девочка часто - недоступный идеал. Это, вероятно, можно соотнести с личной жизнью писателя. Биографические мотивы прослеживаются во многих произведениях автора разных лет. В романе «Пруд» такой девочкой-мечтой станет Верочка, в которую главный герой Николай влюблен в детстве: «Верочку же он видел только вечером, с Верочкой он ни разу не здоровался за руку, никогда не подходил к ней близко, он слышал только ее голос, она какая-то воздушная проходила мимо его» [4, с. 93]. Коля влюблен был и в Машу, но «не знал, что он любит Машу <...>, а о Верочке Коля знал, что влюбился в нее, и себе втайне, только себе одному назвал свое чувство» [4, с. 93]. С ней связана его первая любовная тоска. Подражая старшему брату Пете, Коля заводит дневник, где изливает свои чувства к Верочке: «.и не было строчки без имени, дорогого и страшного, первого имени» [4, с. 93]. Есть у героини Верочки прототип - «Вера Алексеевна Зайцева <жена писателя Б.К. Зайцева> - ровесница Ремизова, которая помнит его с детства. Они жили в Москве по соседству. Она «видела Ремизова в церкви и с другими мальчиками на прогулке в парке» [5, с. 548].
Говоря об образах девочек в произведениях А.М. Ремизова, нельзя не затронуть Лейлу - героиню книги «К Морю-Океану», второй части знаменитой, любимой автором «Посолони». Сюжетная схема книги проста. Мальчик Алалей и девочка Лейла отправляются в опасное и полное увлекательных приключений путешествие к Морю-Океану. На своем пути они встречаются с множеством мифологических и квазимифологических существ, которые в основном доброжелательно относятся к детям и их затее. Преодолев все препятствия и по ходу дела познакомившись с совершенно неизвестным им миром русской демонологии, герои достигают символической цели. Дети любознательны, коммуникабельны, добры, часто не по-детски рассудительны. Даже внешне страшные и отвратительные существа вызывают у них сочувствие, как например Колокольный мертвец, осужденный на вечное ночное сидение на колокольне.
- За что тебя, дедушка? - окликнула Лейла, несмолчивая.
- И сам не знаю, - приостановился мертвец на мосту, - и набожный был я, хоть бы раз на посту оскоромился, не потерял совесть Божью и стыд людской... Видно, скажешь лишнее слово и угодишь...
- У тебя язык, дедушка, длинный?
- Нет, не речливый! Нет, не зазорно я жил, не на худо, не про так говорил и колокольному звону я веровал...
- А зачем ты, дедушка, веровал?.. ты бы лучше в колокольню не веровал, дедушка! [6, с. 115].
При этом Алалей и Лейла не совсем равнозначные персонажи. Лейла живее, умнее и, видимо, старше мальчика. Она способна к мистическим прозрениям. Именно ей «доверяет» Ремизов важную для себя мысль о «Слове о полку Игореве». Перед встречей с «лютыми зверями» девочка видит сон, напоминающий битву с половцами:
- Мне снилось... Я попала на поле, на поливан-ское поле! Не сухой тростник - стоит войско, не серые пчелы - летают пули, валятся тела, что лесные стволы, падают головы, что лесные листья, и течет кровь - стремнистая речка. А из-за крутых гор страшные грозною тучей идут на нас... И вдруг будто ночь, я скачу на коне - сивый конь, красное седло [6, с. 121-122].
Батальная сцена дана в особом детском восприятии, с речевыми ошибками («поливанское поле» вместо «половецкого»), анахронизмами («летают пули»), со смешанным во времени эпизодом солнечного затмения («вдруг будто ночь»). События древней отечественной истории, отраженные в «Слове», существуют, по мысли писателя, на глубинном уровне сознания ребенка. При этом Алалей, которому девочка рассказывает свой грозный сон, называет ее «дочерью горностая», что тоже является косвенной отсылкой к «Слову...» [7, с. 100-203].
Девочка-героиня - это не только возвышенный, недостижимый идеал, чаще всего (особенно в ранних декадентских книгах) у Ремизова девочка является жертвой. Это Машка Пашкова - дочь слесаря из того же романа «Пруд». Это бедная девочка с отцом-пьяницей, жертва: «Подымают Финогеновы свои знамена и хоругви и трогается крестный ход: избиение младенцев» [4. с. 84]. Этот крестный ход, по мнению Г. Слобин, «становится многозначным символом: с одной стороны, он часть христианской легенды, священной истории, христианского обряда и драмы-мистерии, с другой стороны, он на наших глазах входит в детский фольклор» [8. с. 67]. Имя героини также выбрано автором неслучайно. По одной из версий, Мария - значит «отвергнутая». Она безответно и безнадежно влюблена в главного героя, ради своей любви готова на все - даже торговать своим телом может, только бы угодить Николаю.
Девочка у Ремизова - образ греха, над нею сотворенного. Грех вообще очень частотен в книгах писателя. Еще одна героиня романа - Маргаритка -с детства зарабатывала попрошайничеством, а потом, когда ей еще не было и пятнадцати, попала в публичный дом. При упоминании о ней впервые возникает образ земли обетованной, образ ангельских крыльев (как один из главных мифологических лейтмотивов романа), но в слипшихся комьях кровавой грязи - с этого момента начинается Колино паденье. А.М. Ремизов рисует не просто черные крылья, но крылья в кровавой грязи, что символизирует неизбежность грядущей смерти. Имя Маргаритки созвучно названию цветка, но с развитием повествования становится ясно, что это имя падшей девки, которую удобно окликать на улице, еще удобнее было бы называть ее просто Ритка. В начале произведения она характеризуется как «чистая», «ласковая», «проворная», «сахарная», для главного героя поначалу она - «невинная», «кружевная, как игрушечная». Позже она - «сволочь, кожа желтая», у нее «запудренные глаза и лысина». Образ падшей женщины (а точнее девочки, ведь всем этим «женщинам» - четырнадцать-пятнадцать лет) появляется во многих произведениях писателя декадентского периода. Еще одна девушка с изнасилованной душой и телом - чудотворная Верушка из повести «Крестовые сестры». Ее судьба страшна: в пятнадцать лет, один раз став жертвой насилия, она превращается в рабыню: «И опять пошло то же, сначала сам хозяин-буфетчик, за буфетчиком околодочный надзиратель. Как ночь, уж кто-нибудь непременно — человек по пять за ночь к ней приводили» [2, с. 149]. Образ Верушки Ремизов взял из заметки «Драма няньки», помещенной в газете «Биржевые ведомости» 22 февраля 1910 г. за подписью А. Потемкин. Ремизов лишь немного изменил судьбу названной в газете Екатерины В. - та не была круглой сиротой, и из притона ее спасают отец и мачеха. Ремизов превратил ее в «чудотворную» и отправил «в люди», тогда как девушка-прототип так и осталась дома [9, с. 124]
Девочка в книгах писателя - это грех. Это и Аришка из произведения «В плену», чистенькая и опрятная, «...а глаза светлые, детские и жалеют, и смеются, и просят, и тоскуют. И вся она живет перед нами какая-то горячая и желанная» [10, с. 92]. Маленькая девочка, сожительствующая с купцом и подделывающая деньги, прикончившая «старуху злющую». Она представляется автору маленькой болтливой птичкой, жизнь которой -мгновение. Она схожа с Маргариткой из «Пруда»: падение и разврат становятся для нее привычным, даже любимым делом.
Рядом с детьми часто появляются образы животных (Коля и кот Наумка, дети из «Пруда» и крысы, собака Розик). В книге «Крестовые сестры» поет нищенка, бродящая со двора во двор, безногая девочка Маша, а главному герою Маракулину кажется, что это воет Мурка. Мурка - бедная, безвинная кошка, которую кто-то накормил стеклом или гвоздями и которая долго и мучительно умирала во дворе. И Маракулин проводит параллель между Машей и кошкой - обе никому ненужные, брошенные на произвол судьбы, страдающие. Схожи страдания безвинных тварей со страданиями души человеческой - Коли, Маракулина. Стонет умирающая кошка, визжит придавленная собака, а кажется, что плачет человек, потерявший себя в безликости, серости мира. Плачет «изнасилованная» душа.
Но девочка у Ремизова - это не только грех, не только вина, в поздних книгах появляется девочка-долг. Это Оля из романа «В розовом блеске». В главе «Голова львова» автор вспоминает самые первые чувства, переживания девочки: «Самая давняя память у Оли — первая — ощущение тепла и ласки: любимая бабушка берет ее, сонную, к себе на руки и несет на кроватку» [11, с. 507]. Но добрые светлые воспоминания перемежаются с чувством страха: «Ощущение первого страха оказалось словом: “страх смерти” и “страшный суд”» [11. с. 507]. А после тепла и страха необычный для маленького ребенка вопрос: «Откуда люди?». Со всего этого начинается “мысль”, непрерывная, неотвязная. «Оля росла “задумывающейся” — мечтательной. <...> Оля росла непохожая ни на сестер, ни на брата. Рано пробудилась ее мысль — слишком рано стала она замечать и, различая, уж не мыслью, а каким-то сердцем расценивала» [11. с. 510].
Девочка легко чувствует неправду, «первую “неправду” Оля почувствовала в очень раннем возрасте» [11. с. 512]. Эта неправда ее пугает и раздражает одновременно. Это чувство будет с ней на протяжении всей жизни.
Ремизов отмечает, что такая судьба девочки неслучайна, а предрешена свыше: «В детстве Олю встретила Норна - одна из трех и открыла ей путь.
"Оля, — сказала она, — ты должна посвятить себя Богу <..> Тебе надо левую грудь отрезать и положить под образа”» [11. с. 629]. Не зря автор дает героине имя Ольга, что значит «святая, великая».
Странница Ильина так скажет про Олю, отмечая ее «нездешность»: «Все мне в тебе нравится: ты хорошая. Одно только у тебя — и это может помешать - нездоровое начало есть: мистическое» [12].
Девочка с мистическим началом - это не только Оля, но и Оде из Устьсысольска, к которой сама Кикимора являлась в обличии зверька («Иверень»): «И вдруг видит: из-за печки кошка — в доме не было кошек — и очень большая, таких она никогда не видела. <...> Оде ничуть не испугалась: или от того, что уж очень чудная кошка, неправдошняя. Не испугало Оде и то, что лапа с блестящими когтями показалась чересчур холодная и какая-то легкая, приставная» [13. с. 417]. Кроме девочки, никто не видит кошку, а Кикимора полюбила Оде, как родную дочь, умывает ее, причесывает, играет. «С этого дня Оде не узнать было. И с каждым днем она становилась беспокойнее» [13, с. 412] . Девочка умрет от любви, любовь Кикиморы сильная: «Кикимора, играючи, задушила!» [13, с. 429]. По мнению Ремизова, «Кикимора — существо доброе: зла не хочет, зла на уме не держит» [2, с. 242].
Девочка, объединяющая много образов, - девочка-изгой. Одна из таких изгоев - Паранька из рассказа «Иван Купал» - с глазами, грустящими не по-детски мучительно. У нее взгляд, как у Оде, «вдаль», она смотрит за реку и лес. Ее гонят дети, как огорелышевцы гнали Машку Пашкову, «и не было на земле места, где бы схорониться можно» [10. с. 109]. Ю.В. Розанов предполагает, что в образе несчастной Параньки, обиженной сверстниками, Ремизов переосмысляет собственную ситуацию, сложившуюся в вологодской ссылке [7. с. 242]. И таких изгоев в книгах Ремизова предостаточно.
Различные психологические типы девочек и женщин у Ремизова маркируются, как правило, специфическими деталями в портретном описании. Так, внешне привлекательная Маргаритка прячет язвы и слизь, идеальная Ольга имеет черты внешности жены писателя.
Итак, можно отметить, что наиболее часто встречается у Ремизова образ девочки, которая несет в себе укор за грех, совершенный над ней - ее душой и телом. Она - идеальная мученица. Девочка выражает всю боль Ремизова за человечество, «все страды мира». Она - жертва, непринятая, изгой. Грешницей она становится не по своей воле, а по прихоти общества. Этому образу противопоставлен образ девочки-мечты, недоступного идеала, девочки с мистическими чертами.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Русские писатели XI - начала XX века. Библиографический словарь [Текст] / под ред. Н. С. Скатова. -М., 1995. - 592 с.
2. Ремизов, А.М. Собр. соч. Т. 4. Плачужная канава [Текст] / А.М. Ремизов. - М. : Русская книга, 2001. -560 с.
3. Горный, Е. Заметки о поэтике Ремизова: «Часы» [Текст] / Е. Горный // В честь 70-летия профессора Ю.М. Лотмана. - Тарту : Эйдос, 1992. - С. 192-209.
4. Ремизов, А.М. Собр. соч.Т. 1. Пруд [Текст] / А.М. Ремизов. - М. : Русская книга, 2000. - 576 с.
5. Ремизов, А.М. [Комментарии к роману «Пруд»] / А.М. Ремизов // Собр. соч. Т. 1. Пруд / А.М. Ремизов. -М., 2000. - С. 525-570.
6. Ремизов, А.М. Собр. соч. Т. 2. Докука и балагурье [Текст] / А.М. Ремизов. - М. : Русская книга, 2000. -720 с.
7. Розанов, Ю.В. А.М. Ремизов и народная культура [Текст] / Ю.В. Розанов. - Вологда : ВГПУ, 2011. - 216 с.
8. Слобин, Грета Н. Проза Ремизова, 1900-1921 [Текст] / Грета Н. Слобин. - СПб. : Академический проект, 1997. - 206 с.
9. Данилова, И.Ф. Страшная месть: из комментария к повести А. Ремизова «Крестовые сестры» [Текст] / И.Ф. Данилова // Алексей Ремизов: Исследования и материалы. - СПб. : Салерно, 2003. - С. 113-124.
10. Ремизов, А.М. Собр. соч. Т. 3. Оказион [Текст] / А.М. Ремизов. - М. : Русская книга, 2000. - 672 с.
11. Ремизов, А.М. В розовом блеске [Текст] / А.М. Ремизов. - М. : Современник, 1990. - 751 с.
12. Ремизов, А.М. Доля [Электронный ресурс] / А. Ремизов. -(http://www.emigrantika.ru/bib/281-bookv).
13. Ремизов, А.М. Собр. соч. Т.8. Подстриженными глазами. Иверень [Текст] / А.М. Ремизов. - М. : Русская книга, 2000. - 700 с.
НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ ДВОЙСТВЕННОЙ МОДЕЛИ ЖЕНСТВЕННОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Л. ТОЛСТОГО
аспирант кафедры русской литературы,
Воронежский государственный университет
АННОТАЦИЯ. Предметом исследования является роль женщины в гендерных отношениях в позднем творчестве Л. Толстого. Два символических инварианта женских образов — зверь/демон и ангел — предопределяют поведение героинь. Эта двойственность тесно связана с мотивом лжи/обмана. В женщинах-соблазнительницах, обманывающих мужчин и наделенных «смеющимся взглядом», доминирует животное начало. Ангельски чистые девушки сами становятся жертвами обмана мужчин и общества. Узнав истину о половых отношениях, своими невербальными реакциями они демонстрируют страх и ужас. Анализ невербального поведения персонажей позволяет проследить трансформацию женственного от ангела к демону, а также выявить различные виды обмана, то есть обнаружить животное под видимой чистотой.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Л. Толстой, гендерная модель, мотив лжи, семантика жеста.
Postgraduate Student of the Department of Russian Literature,
Voronezh State University
ABSTRACT. The subject of the study is the role of women in gender relations in the later works of Leo Tolstoy. Two symbolical invariants of female images — the animal / demon and an angel — predetermine the heroines’ behaviour. This duality is closely related to the motif of lies / deception. In the temptresses, deceiving men and endowed with ''the laughing eyes'', the animal dominates. Angelically pure girls themselves fall victims to the deception of men and society. Having learned the truth about sexual relations, they show fear and horror in their nonverbal reactions. Analysis of nonverbal behaviour of characters makes it possible to trace the transformation of the feminine from angel to demon, and also to disclose various types of deception, namely, to deduce
the animal under visible purity.
KEY WORDS: Leo Tolstoy, gender model, motif of lies,
В конце 1880-х - начале 90-х годов мотив ложной жизни является центральным в творчестве Л. Толстого.
Вместе с тем на первый план выдвигаются проблемы, связанные с одним аспектом жизни - половым. Именно в это время точка зрения мыслителя на предназначение женщин кардинально меняется, равно как и на брак. Прежде писатель был уверен в том, что главная и священная задача женщины -рождение, кормление и воспитание детей, точно так же, как задача мужчины - труд. К другим делам женщина может быть привлечена только после исполнения ее главного долга: «Всякая женщина, отрожавшая, если у ней есть силы, успеет заняться этой помощью мужчине в его труде, и помощь эта очень драгоценна; но видеть молодую женщину, готовую к деторождению, занятою мужским трудом, все равно, что видеть драгоценный чернозем, засыпанный щебнем для плаца или гулянья. Еще жальче, потому что земля эта могла бы родить только хлеб, а женщина могла бы родить то, чему не может быть оценки, выше чего ничего нет - человека. И только она одна может это сделать» [1, т. 85, с. 348-349]. В соответствии с этими постулатами брак - закон Божий: «Эка, как твердо устано-semantics of gesture.
вил Бог нравственный, т.е. как жить закон для человека: ни направо, ни налево, а иди прямо по узкой дорожке, а то дурно <...> Только и хорошо на узкой дорожке - есть то, что сработал (тогда жирного лишнего не съешь), и, наработавшись, лечь спать с работающей и рожающей и кормящей женой. Тогда только будет и всем другим и тебе хорошо. Вне же этого все скверно и все страдания» [1, т. 85, с. 245].
Следует отметить, что, по мысли Толстого, предназначение женщины, не нашедшей мужа, такое же - воспитание детей, а именно - помощь матерям. «Повивальные бабки, няньки, экономки.» -вот круг деятельности для них. Таким образом, в прославлении брака и деторождения Толстой приходит к крайним убеждениям. Восхваляя труд женщины, на плечи которой ложатся заботы о детях, он утверждает, что ее надо беречь от проявления чувственности посторонних свободных мужчин, а также от похоти собственного мужа. В связи с этим Толстой ставит в один ряд с повивальными бабками, няньками и экономками распутных женщин: «Эти несчастные всегда были и есть и, по-моему, было бы безбожием и бессмыслием допускать, что Бог ошибся, устроив это так, и еще боль-
Информация для связи с автором: y.v.fomina@yandex.ru
ше ошибся Христос, объявив прощение одной из них <...> Только земледелец, никогда не отлучающийся от дома, может, женившись молодым, оставаться верным своей жене и она ему, но в усложненных формах жизни, мне кажется очевидным, что это невозможно (в массе, разумеется) <...> Мне кажется, что этот класс женщин необходим для семьи, при теперешних усложненных формах жизни <...> Тот, кто жил с женщиной и любил ее, тот знает, что у э[той] женщины, рожающей в продолжение 10, 15 лет, бывает период, в котором она бывает подавлена трудом <...> В этом-то периоде представьте себе женщину, подлежащую искушениям всей толпы неженатых кобелей, у к[оторых] нет магдалин...» [1, т. 61, с. 232-234].
Этот взгляд на брак, на женский вопрос меняется, как было уже указано выше, в конце 80-х -начале 90-х годов. Словами героя повести «Крейце-рова соната» Толстой постулирует новые выводы, к которым он приходит: всякие половые отношения, даже в браке - это неестественно, это порок. На вопрос собеседников «.как же бы продолжался род человеческий?» Позднышев отвечает: «Вы заметьте: если цель человечества - благо, добро, любовь, как хотите; если цель человечества есть то, что сказано в пророчествах, что все люди соединятся воедино любовью, что раскуют копья на серпы и т.д., то ведь достижению этой цели мешает что? Мешают страсти. Из страстей самая сильная, и злая, и упорная - половая, плотская любовь, и потому если уничтожатся страсти и последняя, самая сильная из них, плотская любовь, то пророчество исполнится, люди соединятся воедино, цель человечества будет достигнута, и ему незачем будет жить» [1, т. 27, с. 30].
Категоричные высказывания героя повести, вызвавшие споры в обществе, Толстой комментирует в «Послесловии к “Крейцеровой сонате”»: «Целомудрие не есть правило или предписание, а идеал или скорее - одно из условий его. А идеал только тогда идеал, когда осуществление его возможно только в идее, в мысли, когда он представляется достижимым только в бесконечности и когда поэтому возможность приближения к нему - бесконечна» [1, т. 27, с. 84]. Чистым девушке и юноше надо соблюдать свою чистоту от соблазнов, тем же, кто не выдержал и пал, необходимо рассматривать первое падение как единственное, следствием которого становится вступление в брак. «Вступление это в брак своим вытекающим из него последствием -рождением детей - определяет для вступивших в брак новую, более ограниченную форму служения Богу и людям». Людям же, живущим в браке, следует «стремиться вместе к освобождению от соблазна, очищению себя и прекращению греха, заменой отношений, препятствующих и общему и частному служению Богу и людям, заменой плотской любви чистыми отношениями сестры и брата» [1, т. 27, с. 90-91].
Ряд произведений Толстого посвящен проблеме блуда, который наполняет жизнь, - «Крейцерова соната», «Дьявол», «Отец Сергий». Эта проблема здесь тесно связана с мотивом лжи. С этой точки зрения представляют интерес женские образы, которые символически воплощаются в двух инвариантах - зверя/демона или ангела. В первом случае женщина является субъектом лжи, во втором -объектом. Проанализируем поведение женщин в обоих случаях.
Героини, на первый взгляд кажущиеся ангелами, на самом деле часто имеют звериную, животную природу. В определенной степени к этому типу можно отнести Лизу Анненскую («Дьявол»). Внешне Лиза предстает ангельской девушкой; в ее портрете преобладает белый цвет, символизирующий чистоту, невинность: «Лиза была высокая, тонкая, длинная <...> Цвет лица у ней был очень нежный, белый, желтоватый, с нежным румянцем, волосы длинные, русые, мягкие и вьющиеся, и прекрасные, ясные, кроткие, доверчивые глаза» [1, т. 27, с. 490]. Однако за невинной оболочкой скрывается крайне влюбчивая натура: «Еще с института, с 15 лет, Лиза постоянно влюблялась во всех привлекательных мужчин и была оживлена и счастлива только тогда, когда была влюблена» [там же]. Девушка не останавливается на одном мужском объекте: «В эту же зиму в одно и то же время она уже была влюблена в двух молодых людей и краснела и волновалась не только, когда они входили в комнату, но когда произносили их имя» [там же]. Смысл ее жизни - находиться в состоянии влюбленности и вызывать в мужчине ответное чувство. Когда Лиза узнает о намерениях Евгения, она совершенно забывает об остальных молодых людях, а влюбленность в Иртенева становится «.чем-то болезненным» [1, т. 27, с. 490].
Ложность поведения такого рода девушек точно охарактеризовал Позднышев («Крейцерова соната»): «Скажите какой-нибудь матушке или самой девушке правду, что она только тем и занята, чтобы ловить жениха. Боже, какая обида! А ведь они все только это и делают, и больше им делать нечего. <...> И опять, если бы это открыто делалось, а то всё обман. - “Ах, происхождение видов, как это интересно! Ах, Лиза очень интересуется живописью!” <...> А мысль одна: “возьми, возьми меня, мою Лизу! Нет, меня! Ну, хоть попробуй!..” - О, мерзость! ложь!» [1, т. 27, с. 25].
В описании внешности героинь повести «Отец Сергий» также преобладает белый цвет: «Прежде всего эпитет “белый” наличествует в характеристиках каждой из трех женщин, сыгравших роковую, переломную роль в жизни и судьбе героя»; «.эпитет “белый” всякий раз являет постоянное символическое значение, так или иначе сопутствующее понятию дьявол, которое, наряду с понятием бог, является одним из центральных символов повести» [2, с. 88].
Обратимся к описанию одной из девушек: «Мэри была особенно хороша в белом кисейном платье. Она казалась олицетворением невинности и любви. Она сидела, то опустив голову, то взглядывая на огромного красавца, который с особенной нежностью, осторожностью говорил с ней, каждым своим жестом, словом боясь оскорбить, осквернить ангельскую чистоту невесты» [1, т. 31, с. 8-9]. Здесь даже на номинативном уровне, с помощью глагола «казалась», подчеркивается, что чистота девушки -это лишь видимость, иллюзия. Опущенная вниз голова Мэри - отражение «грусти, печали» [3, с. 29], царящих в ее душе. Она огорчена ситуацией, в которой оказалась: девушка понимает, что ей надо признаться жениху в бывшей связи с императором, так как рано или поздно Степан все равно узнает об этом. Однако решает открыться Мэри только после предложения и обмена признаниями в любви, так как уверена, что «.теперь он не уйдет» [1, т. 31, с. 10]. До этого же момента они на пару с матерью были заняты привлечением и ослеплением Степана: «Касатский сделал предложение, и был принят. Он был удивлен легкости, с которой он достиг такого счастья, и чем-то особенным, странным в обращении и матери и дочери» [1, т. 31, с. 8]. Женщины достигли своей цели: Касатский сильно влюблен, а потому лишь удивлен их поведением, но ничего не подозревает.
Признание дается Мэри нелегко: «Я не могу быть неправдива. Я должна сказать всё. Вы спрашиваете, что? То, что я любила. / Она положила свою руку на его умоляющим жестом» [1, т. 31, с. 10]. Сигнал «положить руку на руку другого человека» является выражением «ласки; участия, ободрения» [3, с. 84]. В данном случае определение «умоляющий» говорит о том, что героиня не выражает участие к Степану, а просит такового по отношению к себе. По мере продолжения разговора Мэри начинает испытывать чувство стыда, что отражается в ее жестикуляции: «Вы хотите знать, кого? Да, его, государя. / - Мы все любим его, я воображаю, вы в институте... <...> - Нет, я не просто. / Она закрыла лицо руками. / - Как? Вы отдались ему? / Она молчала. / - Любовницей? / Она молчала. / Он вскочил и бледный, как смерть, с трясущимися скулами, стоял перед нею» [1, т. 31, с. 10]. Использование знака «закрыть лицо руками» типично, «когда жестикулирующий плачет, когда испытывает горе, смущение или стыд» [4, с. 327]. «К коммуникативному поведению относится также молчание, которое часто является, по выражению М. Бахтина, “продолжением беседы”» [4, с. 74]. В сложившейся ситуации молчание героини является и положительным ответом на вопрос Ка-сатского, и отражением ее внутреннего состояния.
Ярко выраженный образ женщины-соблазнительницы, приносящей мужчине зло, - Маковкина, которую отец Сергий называет дьяволом. Она направляется в келью затворника с целью соблазнить его, так как заключила пари, причем вдова уверена в своей победе. На ее лице постоянно появляется улыбка: «- Да я не дьявол... - и слышно было, что улыбались уста, говорившие это.» [1, т. 31, с. 21]; «“Вероятно, запирается чем-нибудь от меня”, - подумала она, улыбнувшись.» [1, т. 31, с. 22]; «Вы не взойдете сюда? - спросила она улыбаясь» [1, т. 31, с. 23]. Следует оговорить, что, «хотя улыбка -это типичное, стереотипное проявление счастья, радости, удовольствия, благодарности, восторга и других позитивных чувств, люди не так часто в каждый данный момент испытывают ровно одно, причем именно положительное, чувство, и улыбка передает всю сложность и разнообразие испытываемых переживаний и ощущений»; «.восприятие улыбок зависит от самых разных факторов <.> от ситуации, в которой возникает жест, от состояния адресата, воспринимающего улыбку, от степени его знакомства с субъектом, от того, как адресат к субъекту относится, и т.п.» [4, с. 340].
Интересно, что Маковкина зачастую улыбается в одиночестве, то есть воспринимающий адресат отсутствует. В связи с этим можно предположить, что ее улыбка - самодовольная. Героиня уверена в силе своих чар: «.она поспешно стала разуваться, не переставая улыбаться, радуясь не столько тому, что она достигла своей цели, сколько тому, что она видела, что смутила его - этого прелестного, поразительного, странного, привлекательного мужчину» [1, т. 31, с. 23].
Во время разговора с отцом Сергием улыбка на лице Маковкиной связана с мотивом узнавания: «Ах, извините! - сказал он, вдруг совершенно перенесясь в давнишнее, привычное обращение с дамами. / Она улыбнулась, услыхав это “извините”» [1, т. 31, с. 22]. Интонация данной фразы подтверждает мнение Маковкиной, что перед ней мужчина, причем мужчина чувственный. Само же узнавание произошло в момент встречи их глаз через окно, причем оно было двустороннее: «Глаза их встретились и узнали друг друга. Не то чтобы они видели когда друг друга: они никогда не видались, но во взгляде, которым они обменялись, они (особенно он) почувствовали, что они знают друг друга, понятны друг другу» [1, т. 31, с. 21]. Если Маковкина узнала в затворнике мужчину: «Эти глаза. И это простое, благородное и - как он ни бормочи молитвы - и страстное лицо! - думала она. - Нас, женщин, не обманешь. Еще когда он придвинул лицо к стеклу и увидал меня, и понял, и узнал. В глазах блеснуло и припечаталось. Он полюбил, пожелал меня. Да, пожелал» [1, т. 31, с. 23-24]; то отец Сергий узнал в женщине за окном искусительницу: «Сомневаться после этого взгляда в том, что это был дьявол, а не простая, добрая, милая, робкая женщина, нельзя было» [1, т. 31, с. 21].
С мотивом узнавания у Толстого корреспондируют мотивы падения преград, нарушения запретов и пленения, впервые появляющиеся в романе «Война и мир»: по наблюдению К.А. Нагиной, «пленению Наташи Ростовой Анатолем способствует визуальный контакт, зрительный мотив, сопряженный с мотивом узнавания» [5, с. 278]. Связывая эту сцену с поздним творчеством писателя, исследователь отмечает, что «спустя два десятка лет сила обольщения будет названа Толстым дьявольской. Правда, мужчина и женщина поменяются местами: роль искусителя, в “Войне и мире” доставшаяся мужчине, в “Дьяволе” и “Отце Сергии” будет отдана женщине. А визионерские мотивы, связанные с околдовывающим взглядом и узнаванием, так и останутся центральными, сквозными» [5, с. 279].
Сцена узнавания друг друга мужчиной и женщиной через окно «.вплоть до деталей описана в “Воскресении”», - замечает Б.И. Берман. «Он [Нехлюдов] стукнул в окно. Она [Катюша], как бы от электрического удара, вздрогнула всем телом, и ужас изобразился на ее лице. Потом вскочила, подошла к окну и придвинула свое лицо к стеклу. Выражение ужаса не оставило ее лица и тогда, когда, приложив обе ладони, как шоры, к глазам, она узнала его» [1, т. 32, с. 61]. Здесь роль искусителя, как и в «Войне и мире», снова передается мужчине. В душе Нехлюдова побеждает «животный человек», Катюша подсознательно понимает это при встрече с ним глазами, поэтому ею овладевает страх, ужас. Эти сцены из «Воскресения» и «Отца Сергия» «пронизывает тот самый взгляд, уничтожающий преграды, и вместе с тем чувство ужаса перед чем-то неминуемым, вытекающим из этой отмены запретов» [6, с. 27].
Реакции отца Сергия, не ожидаемые Маковки-ной, периодически заставляют самодовольную улыбку исчезнуть с ее лица. Так, сначала вдова с улыбкой произносит просьбу пустить ее, чуть позже - с «капризным самовластьем», потом, когда она все еще стоит на улице, а попытки манипуляции оборачиваются неудачей, ей становится жутко, и она говорит уже «плачущим почти голосом» [1, т. 31, с. 21]. Как только Маковкина попадает внутрь кельи, улыбка возвращается, а при рассмотрении отшельника в глазах ее появляется смех. Этот «смеющийся взгляд» характерен для толстовских героев-искусителей. Он присутствует в мимике
Анатоля: «Говоря это, он не спускал улыбающихся глаз с лица, с шеи, с оголенных рук Наташи <...> глядя ему в глаза, она со страхом чувствовала, что между им и ею совсем нет той преграды стыдливости, которую она всегда чувствовала между собой и другими мужчинами. Она, сама не зная как, через пять минут чувствовала себя страшно-близкою к этому человеку. Когда она отворачивалась, она боялась, как бы он сзади не взял ее за голую руку, не поцеловал бы ее в шею» [1, т. 10, с. 331-332]. Ана-толь как бы околдовывает свою жертву этим взглядом, между ними стираются преграды.
Сестра Анатоля также стоит в ряду героев-искусителей, в романе присутствует зеркальная сцена соблазнения Пьера Элен, также связанная с мотивом падения преград. Однако к мимике это не имеет никакого отношения: «Элен улыбнулась с таким видом, который говорил, что она не допускала возможности, чтобы кто-либо мог видеть ее и не быть восхищенным.» [1, т. 9, с. 251]. Она пробуждает чувственность в жертве посредством красоты своего тела: «Она была, как и всегда на вечерах, в весьма открытом по тогдашней моде спереди и сзади платье. Ее бюст, казавшийся всегда мраморным Пьеру, находился в таком близком расстоянии от его глаз, что он своими близорукими глазами невольно различал живую прелесть ее плеч и шеи, и так близко от его губ, что ему стоило немного нагнуться, чтобы прикоснуться до нее. Он слышал тепло ее тела, запах духов и скрып ее корсета при движении. Он видел не ее мраморную красоту, составлявшую одно целое с ее платьем, он видел и чувствовал всю прелесть ее тела, которое было закрыто только одеждой. И, раз увидав это, он не мог видеть иначе, как мы не можем возвратиться к раз объясненному обману <...> И между ним и ею не было уже никаких преград, кроме преград его собственной воли» [1, т. 9, с. 251-252].
Причем особую роль Элен играет и в искушении Наташи: «Роль соблазнителя чуть было не сбившейся с пути Наташи отведена Анатолю, но сила, которая стоит за этим обольщением, несомненно, принадлежит Элен» [7, с. 197]. Когда Наташа видит даму «.с огромною косой и очень оголенными, белыми, полными плечами и шеей, на которой была двойная нитка больших жемчугов» [1, т. 10, с. 325], она невольно попадает под влияние телесной привлекательности Элен: «Чудо! - сказала Наташа, - вот влюбиться можно!» [1, т. 10, с. 326]. Так, в театре еще до встречи с Анатолем сознание Наташи уже отравлено.
Крестьянка Степанида («Дьявол») также наделена «смеющимся взглядом»: «.из-под платка блеснули знакомые улыбающиеся, веселые глаза» [1, т. 27, с. 492]; «Она, улыбаясь глазами, весело взглянула на него» [т. 27, с. 496]. Этот «смеющийся взгляд» Степаниды должен вписывать героиню в ряд толстовских соблазнителей, в душе которых властвует «животный человека». Но, как отмечает В. Порудоминский, «куда денешь и упоительную, особенную красоту крестьянки, и так рвущуюся из каждой строки прелесть греховных свиданий, в ожидании которых герою “представлялись именно те самые черные, блестящие глаза, тот же грудной голос, говорящий “голомя”, тот же запах чего-то свежего и сильного, и та же высокая грудь, поднимающая занавеску, и всё это в той же ореховой и кленовой чаще, облитой ярким светом”» [8, с. 148]. Такое любовное отношение автора к Степаниде объясняется, вероятно, ее внешней схожестью с Марьяной: «С быстрым и жадным любопытством молодости он невольно заметил сильные и девственные формы, обозначившиеся под тонкою ситцевою рубахой, и прекрасные черные глаза» [1, т. 6, с. 41].
При внешней схожести солдатка Степанида и казачка Марьяна имеют кардинально разные духовные установки. У Степаниды искаженный взгляд на мораль: она приходит на свидания к Ир-теневу, будучи замужем. Когда Евгений затрагивает тему ее замужества, происходит следующий диалог: «- Ну как же вот ты ко мне ходишь? / - Вона, -весело проговорила она. - Он, я чай, там гуляе. Что ж мне-то?» [1, т. 27, с. 488]. Марьяна же отличается нравственной силой, ей присуще чувство собственного достоинства, независимость. Она не идет наперекор своим убеждениям даже ради любви. Когда Лукашка упрекает ее: «Да и что все ждать да ждать! Я ли тебя не люблю, матушка!», она совершенно спокойно, не вырывая рук и не отворачивая лица, отвечает: «Известно, я девка, а ты меня слушай. Воля не моя, а коли ты меня любишь, я тебе вот что скажу. Ты руки-то пусти, я сама скажу. Замуж пойду, а глупости от меня никакой не дождешься» [1, т. 6, с. 54].
У Марьяны также появляется характерный взгляд: «. порывисто оглянулась смеющимися глазами на молодого человека.» [1, т. 6, с. 42]; «Выйдет она на середину хаты, увидит его [Оленина], - и глаза ее чуть заметно ласково улыбнутся, и ему станет весело и страшно» [1, т. 6, с. 101]. Ее нельзя отнести к героиням-соблазнительницам в полном смысле. Однако образ Марьяны порождает в душе Оленина желание счастья для себя, причем здесь и сейчас, так же как и образ Анатоля - в душе Наташи, образ Степаниды - в душе Евгения.
Б.И. Берман усматривает корни «смеющегося взгляда» в «Сказке о том, как другая девочка Ва-ринька скоро выросла большая» (1857-1858 гг.). Варя встречает в театре «волшебного» мальчика Сашу и мечтает вырасти, чтобы выйти за него замуж. Ее мечта осуществляется во сне, она бежит туда, где живет Саша, и он тоже волшебным образом вырастает: «Саша открыл глаза и посмотрел на Вариньку, но и глаза и улыбка Саши были такие странные. / - А, вот сюрприз, - сказал он потягиваясь. / Вариньке стало вдруг стыдно и страшно. У Вариньки потемнело в глазах, она закричала и упала навзничь» [1, т. 5, с. 229]. Взгляд Саши не назван смеющимся, как у Маковкиной, или улыбающимся, как у Курагина, однако это родственный им, «странный», или «страшный» (как отмечают издатели «Сказки», можно прочесть и так). «Кульминация "Сказки о том, как Варинька вдруг выросла большая" - глаза и улыбка мужчины и ужас этих особенных улыбки и взгляда» [6, с. 14]. Реакция девочки - единственно возможная для невинного ребенка. Такая реакция должна быть у любой чистой девушки. Внешне в ситуации с Наташей так и происходит: «смеющийся взгляд» соблазнителя ярко контрастирует с удивленным, растерянным взглядом девушки. Однако Наташа все же поддается чарам искусителя: «Она прямо в глаза взглянула ему, и его близость и уверенность, и добродушная ласковость улыбки победили ее. Она улыбнулась точно так же, как и он, глядя прямо в глаза ему. И опять она с ужасом чувствовала, что между ним и ею нет никакой преграды» [1, т. 10, с. 332].
В романе «Анна Каренина» также присутствует обмен взглядами, сопряженный с мотивом узнавания. Здесь нет «смеющегося взгляда», но мотивы те же: «Анна, взглянув вниз, узнала тотчас же Вронского, и странное чувство удовольствия и вместе страха чего-то вдруг шевельнулось у нее в сердце <...> он поднял глаза, увидал ее, и в выражении его лица сделалось что-то пристыженное и испуганное» [1, т. 18, с. 81]. Интересно, что страх испытывают оба персонажа. Здесь сложно определить, кому отдана роль искусителя.
В случае с Сергием такая тактика соблазнения «смеющимся взглядом» не работает: Маковкина начинает разговор, пытается лгать, но «... лицо его смущало ее, так что она не могла продолжать и замолчала» [1, т. 31, с. 22]. Возобновляет разговор героиня, только оказавшись за стеной от отца Сергия. Тогда возвращаются и улыбка, и смех: «Она тянула его [ботик] и не могла, и ей смешно это стало. И она чуть слышно смеялась, но, зная, что он слышит ее смех и что смех этот подействует на него именно так, как она этого хотела, она засмеялась громче, и смех этот, веселый, натуральный, добрый, действительно подействовал на него, и именно так, как она этого хотела» [1, т. 31, с. 23]. Здесь смех приобретает функцию флирта, соблазнения.
Н.А. Переверзева обращает внимание на то, что в образе Маковкиной играют особую роль «символические представления, связанные с понятием нога / обувь [2, с. 87]: «.левая нога была мокра до икры, и ботинок и ботик полон воды»; «.говорила она, сняв, наконец, ботик и ботинок и принимаясь за чулки. Чтобы снять их, эти длинные чулки на ластиках, надо было поднять юбки»; «“Он обо мне думает. Так же, как я об нем. С тем же чувством думает он об этих ногах”, - говорила она, сдернув мокрые чулки и ступая босыми ногами по койке и поджимая их под себя. Она посидела так недолго, обхватив колени руками и задумчиво глядя перед собой», «.легко ступая босыми ногами, вернулась на койку и опять села на нее с ногами» [1, т. 31, с. 24]. По утверждению исследователя, «обнажение ног, обостренное внимание ко всему, что связано с ними (обувь, одежда), характерно у позднего Л.Н. Толстого для героев в минуты катастроф» [2, с. 87].
Критическая ситуация отражается и на поведении, и на состоянии героини. Отсутствие ответа отца Сергия на ее призывы о помощи доводит Ма-ковкину до исступления: улыбка/смех сменяются притворным «страдающим голосом», а он в свою очередь влечет за собой истинные мучения: «Ох, ох! - застонала она, падая на койку. И странное дело, она точно чувствовала, что она изнемогает, вся изнемогает, что все болит у нее и что ее трясет дрожь, лихорадка» [1, т. 31, с. 24].
Знаменательно, что улыбка/смех после этого уже не появляется на лице Маковкиной. Долгожданное появление отца Сергия не приносит радости, производит обратный эффект: «Она взглянула на его побледневшее лицо с дрожащей левой щекой, и вдруг ей стало стыдно. Она вскочила, схватила шубу и, накинув на себя, закуталась в нее» [1, т. 31, с. 25]. Внешний вид отшельника говорит об эмоциональном состоянии героя: «.к наиболее очевидным последствиям эмоций относится рефлекторный эффект, обычный при эмоциональных процессах большой силы. Такие явления, как дрожь, расширение зрачков и побледнение лица, легче всего поддаются наблюдению» [9, с. 135]. Так, побледневшее лицо и дрожащая щека отца Сергия говорят о пережитом им страхе: «.по миновании опасности являются все последствия страха <.> т.е. сильное биение сердца, бледное лицо, иногда даже трясение членов и т.д.» [9, с. 69]. Герой боится поддаться искушению: «Но он все слышал. Он слышал, как она шуршала шелковой тканью, как она ступала босыми ногами по полу; он слышал, как она терла себе рукой ноги. Он чувствовал, что он слаб и что всякую минуту может погибнуть <.> Так и Сергий слышал, чуял, что опасность, погибель тут, над ним, вокруг него, и он может спастись, только ни на минуту не оглядываясь на нее. Но вдруг желание взглянуть охватило его» [1, т. 31, с. 24-25]. Этот страх становится стимулом к решительным действиям: Сергий отрубает себе палец и только после этого позволяет себе войти к женщине. Когда страх побежден, в глазах героя появляется «тихий радостный свет» [1, т. 31, с. 26].
Маковкина, обнаружив в сенях «на полу окровавленный палец», возвращается бледнее отца Сергия. В этот момент она переживает сильнейшее эмоциональное потрясение, которое приведет ее к духовному перерождению. Теперь она совершенно искренне просит прощения и помощи: «- Отец Сергий. Я переменю свою жизнь. Не оставляйте меня. / - Уйди. / - Простите и благословите меня. / - Во имя отца и сына и святого духа, - послышалось из-за перегородки. - Уйди. / Она зарыдала и вышла из кельи» [1, т. 31, с. 26]. После этого женщина замолкает и на протяжении всей дороги не произносит ни слова.
В повести «Отец Сергий» есть еще одна женщина, которую главный герой называет дьяволом, причем в лицо. Это слабоумная дочь купца, во внешнем виде которой также преобладает белый цвет: «Дочь была белокурая, чрезвычайно белая, бледная, полная, чрезвычайно короткая девушка, с испуганным детским лицом и очень развитыми женскими формами» [1, т. 31, с. 36]. Диссонанс между выражением лица и фигурой девушки при первом же взгляде на нее раскрывает всю ее сущность: «По лицу ее он [отец Сергий] увидал, что она чувственна и слабоумна» [там же]. Так как Марья лишена разумного сознания, основную роль в ее жизни играет звериное, чувственное. В ее действиях нет лжи, кокетства, попыток манипуляции, по сравнению с Маковкиной: Марья спокойно берет руку отца Сергия и прикладывает ее к своей груди, так же спокойно целует ее, обнимает героя и прижимает к себе. Схожесть соблазнительниц проявляет себя и в мимике: на лице Марьи постоянно присутствует улыбка. Однако здесь сложно говорить о функциях этого знака, так как «веселое настроение большинства слабоумных <.> не может быть ассоциировано ни с какими определенными представлениями: они просто чувствуют удовольствие и выражают его смехом или улыбкой» [10, с. 183].
Всеми этими героинями правит «животный человек», живущий внутри них. Они несут зло мужчине, пробуждая в нем чувственность, похоть, соблазняя его. Говоря словами Позднышева, женщины приобрели «страшную власть над людьми»: «Женщины устроили из себя такое орудие воздействия на чувственность, что мужчина не может спокойно обращаться с женщиной. Как только мужчина подошел к женщине, так и подпал под ее дурман и ошалел. И прежде мне всегда бывало неловко, жутко, когда я видал разряженную даму в бальном платье, но теперь мне прямо страшно, я прямо вижу нечто опасное для людей и противуза-конное, и хочется крикнуть полицейского, звать защиту против опасности, потребовать того, чтобы убрали, устранили опасный предмет» [1, т. 27, с. 26].
Обратимся к противоположному типу женщин, действительно чистых и невинных. В данном случае прослеживается обратная ситуация: девушки оказываются обмануты обществом, в том числе и их собственными матерями. Только молодые девушки пребывают в неведении о том распутстве, которое творится в обществе: «Из тысячи женящихся мужчин не только в нашем быту, но, к несчастью, и в народе, едва ли есть один, который бы не был женат уже раз десять, а то и сто или тысячу, как ДонЖуан, прежде брака» [1, т. 27, с. 21]; «...обмануты тут ведь только одни несчастные девушки. Матери же знают это, особенно матери, воспитанные своими мужьями, знают это прекрасно. И притворяясь, что верят в чистоту мужчин, они на деле действуют совсем иначе. Они знают, на какую удочку ловить мужчин для себя и для своих дочерей» [1, т. 27, с. 22]; «.несколько высшего света девушек выданы родителями с восторгом за сифилитиков. О! о мерзость! Да придет же время, что обличится эта мерзость и ложь!» [1, т. 27, с. 27].
Невинные девушки испытывают шок, страх, грусть, познав истинную сущность отношений между мужчиной и женщиной: «Моя сестра очень молодая вышла замуж за человека вдвое старше ее и развратника. Я помню, как мы были удивлены в ночь свадьбы, когда она, бледная и в слезах, убежала от него и, трясясь всем телом, говорила, что она ни за что, ни за что, что она не может даже сказать того, чего он хотел от нее» [1, т. 27, с. 2829]. Здесь можно отметить все признаки пережитого девушкой ужасного страха - бледность, трясущееся тело, рыдания. Этим примером Позднышев аргументирует неестественность половых отношений. Другой пример, который он приводит, - поведение его жены в первое время после свадьбы: «Кажется, на третий или на четвертый день я застал жену скучною, стал спрашивать, о чем, стал обнимать ее, что, по-моему, было всё, чего она могла желать, а она отвела мою руку и заплакала. О чем? Она не умела сказать. Но ей было грустно, тяжело. Вероятно, ее измученные нервы подсказали ей истину о гадости наших сношений; но она не умела сказать» [1, т. 27, с. 31]. Оправдание этой «свиной связи» Позднышев (как и сам Толстой) видит в рождении и воспитании детей. С этой точки зрения «.заслуживает внимания настойчивое требование Толстого (получившее отражение и в “Крейцеровой сонате”), чтобы жена сама кормила. Функция деторождения воспринимается им именно как родовая, то есть от жены в первую очередь требуется выполнение функций самки, этому придается какое-то почти сакральное значение» [11].
Здесь появляется мотив звериного, причем с двух разных сторон. Исполнение женщиной роли самки имеет положительную коннотацию, так как имеет смысл: деторождение. В данном случае происходит прямой перенос природных законов на человеческую жизнь. Второе значение несет в себе негативную оценку, где звериное - это символ половой разнузданности в жизни людей. Животные не могут отказаться от продолжения рода, это исключительно человеческое изобретение - вступать в связь только ради наслаждения.
Так, когда жене Позднышева врачи запрещают рожать, она внешне меняется: «.она физически раздобрела и похорошела, как последняя красота лета. Она чувствовала это и занималась собой. В ней сделалась какая-то вызывающая красота, беспокоящая людей. Она была во всей силе тридцатилетней нерожающей, раскормленной и раздраженной женщины. <...> Она была, как застоявшаяся, раскормленная запряженная лошадь, с которой сняли узду» [1, т. 27, с. 47].
Аналогичные изменения происходят и с Анной Карениной: «Долли в Воздвиженском видит и расцветшую физическую красоту Анны, и блеск ее облика, рифмующийся с блеском сытых, ухоженных лошадей и всего богатого, но необжитого имения Вронского» [12, с. 412-413]. Интересно, что Анна по своему собственному желанию отказывается от рождения детей: «... у меня не будет больше детей. <...> Не будет потому, что я этого не хочу» [1, т. 19, с. 213]. Героиня воспринимает беременность как болезнь, а свое тело - как инструмент, служащий для того, чтобы удержать любовь и внимание Вронского: «Подумай, у меня выбор из двух: или быть беременною, то есть больною, или быть другом, товарищем своего мужа, всё равно мужа» [1, т. 19, с. 214].
Анна, как и жена Позднышева, перестает заботиться и об уже имеющихся детях. Дочь она оставляет на плечи кормилицы и гувернантки, даже не контролируя их действия. Долли же сразу обращает внимание на то, что эти женщины плохо выполняют свои обязанности: «Когда они вошли, девочка в одной рубашечке сидела в креслице у стола и обедала бульоном, которым она облила всю свою грудку. Девочку кормила и, очевидно, с ней вместе сама ела девушка русская, прислуживавшая в детской. Ни кормилицы, ни няни не было; они были в соседней комнате, и оттуда слышался их говор на странном французском языке, на котором они только и могли между собой изъясняться» [1, т. 19, с. 193]. Анна не замечает этого, не высказывает кормилице и гувернантке никаких претензий. Сама она, по всей видимости, редко заглядывает в детскую, даже не знает последних новостей о развитии своей дочери. Что касается сына, Анна, конечно, скучает по нему и страстно любит его. «Но, - как отмечает Э. Фогель, - возможно, именно страстность этой любви разрушает ее отношения с сыном, так же как и с Вронским. Анна не испытывает “истинной, правильной” материнской любви в понимании Толстого» [13, с. 206].
С изменением образа жизни Анны в ее мимике появляется новая привычка: щуриться. Внимательная Долли подмечает и интерпретирует этот жест: «И ей вспомнилось, что Анна щурилась, именно когда дело касалось задушевных сторон жизни. “Точно она на свою жизнь щурится, чтобы не все видеть”» [1, т. 19, с. 204].
Интересно, что в мире животных у Толстого возможна такая же ситуация. Иллюстрацией могут служить отношения Холстомера с его матерью. Конечно, Баба не может отказаться от продолжения рода, как могут себе позволить это женщины, но она также ставит на первое место плотскую любовь, а не материнскую. Изменения Холстомер замечает, когда мать с приходом весны начинает испытывать половое возбуждение: «Весь нрав ее изменился; то она вдруг без всякой причины начинала играть, бегая по двору, что совершенно не шло к ее почтенному возрасту; то задумывалась и начинала ржать; то кусала и брыкала своих сестер кобыл; то начинала обнюхивать меня и недовольно фыркать; то, выходя на солнце, клала свою голову чрез плечо своей двоюродной сестре Купчихе и долго задумчиво чесала ей спину и отталкивала меня от сосков» [1, т. 26, с. 15]. После свидания матери с Добрым Холстомер вовсе не узнает ее, настолько она изменилась внешне: «помолодела и похорошела». Отношения Холстомера с матерью портятся окончательно: «По всему выражению ее я видел, что она меня не любила. Она рассказывала мне про красоту Доброго и про свою любовь к нему. Свидания эти продолжались, и между мною и матерью отношения становились холоднее и холоднее» [1, т. 26, с. 16].
Зверь проявляется в жене Позднышева с особенной силой, когда в доме супругов появляется Тру-хачевский: «С первой минуты, как он [Трухачев-ский] встретился глазами с женой, я видел, что зверь, сидящий в них обоих, помимо всех условий положения и света, спросил: “можно?” и ответил: “о, да, очень”» [1, т. 27, с. 54]. С этого момента между тремя людьми начинается невербальная «игра взаимного обманыванья»: «Я приятно улыбался, делая вид, что мне очень приятно. Он, глядя на жену так, как смотрят все блудники на красивых женщин, делал вид, что его интересует только предмет разговора, именно то, что уже совсем не интересовало его. Она старалась казаться равнодушной, но знакомое ей мое фальшиво-улы-бающееся выражение ревнивца и его похотливый взгляд, очевидно, возбуждали ее» [1, т. 27, с. 53].
Зверь, живущий и в жене Позднышева, и в Труха-чевском, объединяет их на невербальном уровне: «... между ним и ею тотчас же установился как бы электрический ток, вызывающий одинаковость выражений, взглядов и улыбок. Она краснела - и он краснел, она улыбалась - он улыбался» [1, т. 27, с. 53]. То же самое отмечает Кити в поведении Анны и Вронского на балу: «Она видела, что они чувствовали себя наедине в этой полной зале <...> Анна улыбалась, и улыбка передавалась ему. Она задумывалась, и он становился серьезен» [1, т. 18, с. 88-89].
При прямом разговоре с мужем о его ревности к Трухачевскому она искренне смеется, считая странной возможность связи с таким человеком. Несмотря на это, она ведет себя, как кокетка, которой очень важно общественное мнение: «Разве к такому человеку возможно в порядочной женщине что-нибудь кроме удовольствия, доставляемого музыкой? Да если хочешь, я готова никогда не видать его. Даже в воскресенье, хотя и позваны все. Напиши ему, что я нездорова, и кончено. Одно противно, что кто-нибудь может подумать, главное он сам, что он опасен. А я слишком горда, чтобы позволить думать это» [1, т. 27, с. 59-60]. Так, отказ от деторождения пробуждает в женщине зверя, она начинает заниматься собой, своим усовершенствованием, и даже занятия с уже имеющимися детьми отходят на второй план.
Итак, в повестях Толстого представлены два противоположных типа женщин: ангел и зверь / демон. С одной стороны, невинные девушки ненавидят интимные отношения между мужчиной и женщиной, с другой стороны, они понимают подсознательно, что главное для мужчины - тело. Причины такого двойственного представления о женственности, на наш взгляд, точно определила Э. Шорэ. Во-первых, «Толстой обращается к модели женственности, которая сложилась в Западной Европе после смены дискурса о равноправии полов, характерной для эпохи Просвещения, под влиянием натурфилософии Руссо. <...> Художественные образы, создаваемые в литературе, разделяют женственное на идеализируемую и демоническую фигуры: это и воплощенная “вечная женственность”, и порочность, святая и блудница, ангел и демон [14, с. 198-199]. Во-вторых, «.этот двойственный образ женщины связан с социальной действительностью общества и его стандартными моделями поведения» [14, с. 199]. В повести описывается принятое за норму посещение публичных домов юношами в качестве обряда посвящения в сексуальную жизнь, рассказывается об убеждениях врачей, что регулярная половая жизнь полезна и обязательна для здоровья мужчины, в связи с чем роль женщины снижается до «объекта удовлетворения половых инстинктов». В то же время от молодых девушек, рассматриваемых в качестве будущих жен, мужчины, несмотря на свой собственный образ жизни, ждут чистоты и невинности. «С помощью этой социальной критики, сформулированной на поверхностном уровне текста, Толстой разоблачает социальную модель гендерных ролей с ее двойной моралью и лицемерием» [там же].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:_
1. Толстой, Л.Н. Полное собрание сочинений : в 90 т. [Текст] / Л.Н. Толстой. - М.; Л. : Художественная литература, 1928-1958.
2. Переверзева, Н.А. Художественная функция символа и «контекст прошлого» в повести Л.Н. Толстого «Отец Сергий» [Текст] / Н.А. Переверзева // Вестник ТГУ. Сер. Гуманитарные науки. - 2008. - №10. -
3. С. 83-92.
4. Акишина, А.А. Жесты и мимика в русской речи [Текст] / А.А. Акишина. - М. : Рус. яз., 1991. - 144 с.
5. Крейдлин, Г.Е. Невербальная семиотика: Язык тела и естественный язык [Текст] / Г.Е. Крейдлин - М. : Новое лит. обозрение, 2002. - 592 с.
6. Нагина, К. А. Жалость и соблазн: Пастернак versus Л. Толстой [Текст] / К.А. Нагина // Характерологические стратегии в русской литературе. - Воронеж : Научная книга, 2013. - С. 265-292.
7. Берман, Б.И. Сокровенный Толстой [Текст] / Б.И. Берман. - М. : Гендальф, 1992. - 206 с.
8. The Cambridge Companion to Tolstoy/ Edited by Donna Tussing Orwin. - New York : Cambridge University Press, 2002. - P. 271.
9. Порудоминский, В.О Толстом [Текст] / В. Порудоминский. - СПб. : Алетейя, 2010. - 413 с.
10. Психология эмоций. Тексты [Текст] / под ред. В.К. Вилюнаса, Ю.Б. Гиппенрейтер. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 288 с.
11. Дарвин, Ч. О выражении эмоций у человека и животных [Текст] / Ч. Дарвин. - СПб. : Питер, 2001. - 384 с.
12. Касаткина, Т. Философия пола и проблема женской эмансипации в «Крейцеровой сонате» Л.Н. Толстого [Электронный ресурс] / Т. Касаткина // Журнальный зал [сайт]. - (Режим доступа: http://magazines.russ.rU/voplit/2001/4/kasat.html).
13. Сливицкая, О. «Истина в движенье»: О человеке в мире Л. Толстого [Текст] / Ю. Сливицкая. - СПб. : Амфора, 2009. - 443 с.
14. Фогель, Э. Модели материнства в романе Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина» (1873-1877) [Текст] / Э. Фогель // Пол. Гендер. Культура. Немецкие и русские исследования : сб. статей. - М. : РГГУ, 2003. - Вып. 3. - 309 с.
15. Шорэ, Э. «По поводу Крейцеровой сонаты.» Гендерный дискурс и конструкты женственности у Л.Н. Толстого и С.А. Толстой [Текст] / Э. Шорэ // Пол. Гендер. Культура. Немецкие и русские исследования : сб. статей. - М. : РГГУ, 1999. - 215 с.
аспирант кафедры теории, истории и методики преподавания русского языка и литературы,
Воронежский государственный педагогический университет
АННОТАЦИЯ. Рассматриваются жанровые особенности поздней повести И.С. Тургенева «После смерти (Клара Милич)». Писатель-реалист создал оригинальное произведение, в котором ведущую роль играют фантастические и мистические элементы. В итоге получилась философская повесть, где рассматриваются проблемы любви, «власти любви», счастья. Также большое внимание Тургенев уделил мотиву искусства, в результате чего повесть содержит множество музыкальных и литературных цитат. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мистическая повесть, интертекст, искусство, фантастический элемент, реальность и вымысел.
Postgraduate Student of the Department of Theory,
History and Methodology of Teaching Russian Language and Literature,
Voronezh State Pedagogical University
ABSTRACT. The paper discusses genre features of the late novel by I.S. Turgenev ''After death (Klara Mi-lich)." The writer-realist created an original work in which the leading role is played by fantastic and mystical elements. As a result, a philosophical story emerged, which deals with the problems of love, '"power of love”, happiness. Turgenev also paid much attention to the motif of art, therefore, the novel contains plenty of musical and literary quotations.
KEY WORDS: mystical story, an intertext, art, fantastic element, reality and fiction.
В 1883 г. в первом номере журнала «Вестник Европы» пожилой И.С. Тургенев опубликовал свою «самую мистическую» повесть. Очевидно, что в основе событийного блока этого произведения лежит нашумевшая история самоубийства талантливой актрисы Е.П. Кадминой, принявшей яд на сцене. Тургенев неоднократно видел и слушал Е.П. Кадмину в Мариинском и Большом театрах, его, как и многих, потрясла смерть певицы и актрисы, но писатель отмечал, что эта реальная трагедия стала лишь «толчком» для создания его повести.
Рассматриваемое произведение Тургенева принято называть фантастической или мистической повестью. Н.Л. Лейдерман считал повесть «самым живучим жанром русской литературы», бытующим в искусстве в годы его самых глубоких кризисов и «переходных периодов». «У нас бывали “безроманные” времена, случались полосы, когда сетовали на отсутствие значительных рассказов, бывали целые десятилетия без запоминающейся драматургии, но без хороших повестей мы не жили ни в кои поры», - продолжает исследователь [1, с. 243]. Повесть не только живуча, но и пластична, неслучайно пожилой уже Тургенев (признанный романист!) выбрал именно этот жанр для своеобразного эксперимента - фантастика и мистика вкупе с реалистическим бытописанием.
В.Г. Белинский выделял такой признак повести, как универсальность (что также очень важно в связи с «Кларой Милич...»): она «может вместить в себя всё, что хотите - и лёгкий очерк нравов, и колкую саркастическую насмешку над человеком и обществом, и глубокое таинство души, и жестокую игру страстей» [2, с. 112].
Несмотря на то, что анализируемая повесть, безусловно, фантастическая, автор рассчитывал на то, что читатель (наряду с чувством удивления и со страхом перед мистическим) будет сочувствовать героям и верить в реальность изображённого ирреального. Здесь важно глубинное значение термина: «Внутренняя форма слова “повесть” достаточно определённа: весть о том, что было. Изначально повесть в литературе - запись предания. Такова “Повесть временных лет”, таковы повести о княжеских преступлениях», - заключает В.Н. Захаров [3, с. 14].
Такие черты повести, как «терпимость» к соединению разнородных элементов различных художественных методов (сентиментализма, романтизма, реализма), видимо, импонировали Тургеневу, который уже «в 70-х годах проявлял в своём творчестве особый интерес к “таинственному” и непостижимому как мистическому» [4, с. 61].
Фантастика, фантастическое в справочной научной литературе определяется как область искусства, где «авторский вымысел от изображения страннонеобычных, неправдоподобных явлений простирается до создания особого - вымышленного, нереального, “чудесного мира”» [5, с. 461].
Интерес Тургенева к народной жизни (что иногда связано с иррациональными данностями фольклора), а также внимание автора к тайным «движе-
Информация для связи с автором: bananka-ulyanka@yandex.ru
ниям души» обусловили достаточно частое введение фантастических элементов в его художественные произведения.
В литературоведении устоялось мнение, что повесть - жанр «заданный», где герой (в отличие от романного) имеет подчёркнуто выраженное задание. Данная черта отражается на всей художественной логике, в частности на сюжетно-композиционной системе произведения: её «линейность» (необъёмность) требует завершения произведения сразу после выполнения персонажем определённых действий (это роднит повесть со сказкой). «Клара Ми-лич...» заканчивается смертью Аратова, который уходит из жизни счастливым: «И опять на лице умирающего засияла та блаженная улыбка» [6, с. 407]. В этом случае необходимо отметить и умение данного жанра концентрироваться на главной авторской цели, вследствие чего все герои «каким-то образом участвуют в одном и том же деле» [7, с. 9].
Однако в литературоведении указывается и на автобиографическую природу повести «Клары Ми-лич...», без учёта этого её анализ будет неполным.
Исследователи указывают на такие черты Тургенева, как «благородство», «вера в добро - любовь и самоотвержение», что отражалось на «отношении автора к его персонажам» [8, с. 159]. Другие, например, В.Н. Топоров отмечают, что Тургеневу были свойственны «раскованность воображения, артистизм <...> фантазий-импровизаций, развиваемых им чаще всего как нечто самодовлеющее, чисто художественное, не имеющее непосредственных связей с жизнью и ею не проверяемое» [9, с. 21]. Также была замечена склонность к мистицизму Турге-нева-человека: «Но иногда суеверие приобретало и неестественные, софистифицированные, изощрённые формы. Чем ближе становился 1881 год, тем тревожнее становился Тургенев. По его вычислениям, в этом году, начиная с октября, он должен был умереть, поскольку сам родился в октябре. Схема “октябрь 1818 - октябрь 1881” (18-81) с её симметрией завораживала его и становилась для него реальностью временных рамок его жизни» [9, с. 42]. Как известно, Тургеневу не суждено было умереть в 1881 году, но когда он писал «Клару Милич...», то заметил: «Кто знает - я, может быть, пишу это за несколько дней до смерти» [9, с. 43]. Как известно, писатель умер в 1883 году.
Выстраивается некая линия, объединяющая портретные черты Клары Милич, Полины Виардо и Е.П. Кадминой, чей образ навеял Тургеневу мысль создать повесть. «Это была девушка лет девятнадцати, высокая, несколько широкоплечая, но хорошо сложенная. глаза небольшие, чёрные, под густыми, почти сросшимися бровями, нос прямой, слегка вздёрнутый, тонкие губы с красивым, но резким выгибом, громадная чёрная коса, тяжёлая даже на вид <...> натура страстная, своевольная - и едва ли добрая, едва ли очень умная, но даровитая - сказывалась во всём» [6, с. 364-365].
Существует информация о том, что Е.П. Кадми-на обладала резким, своевольным характером, а сохранившиеся портреты представляют черноглазую, черноволосую женщину, обладательницу оригинальной красоты.
Если обратиться к воспоминаниям очевидцев (А.Ф. Кони, Л.Ф. Нелидовой, Е.Е. Ламберт), то можно узнать, что Полина Виардо имела огромные тёмные глаза, была черноволоса, черты лица были негармоничны (в общепринятом смысле): «Виардо отлично пела и играла, но была очень некрасива, особенно неприятен был её огромный рот», - вспоминала А.Я. Панаева [10, с. 153]. Но при первых же звуках прекрасного голоса, по мнению многих, исполнительница преображалась и сама становилась прекрасной.
Собираясь на концерт, где намеревалась петь Клара Милич, один из персонажей повести Тургенева, Купфер, говорит: «Мы ещё не знаем хорошенько: Рашель она или Виардо?... потому что она и поёт прекрасно, и декламирует, и играет» [6, с. 362]. В комментариях к повести так объясняется это двойное сравнение: «В данном случае - драматическая или оперная артистка по своему призванию» [6, с. 317].
Однако не менее важно рассмотреть и такие мотивы (также автобиографические для Тургенева), как «воля обладания», «власть любви» (даже после смерти), которые являются в повести важнейшими. Главный герой (Аратов) испытывал следующие чувства: «недоумевал, ... сердился на себя»; «то ему снова представлялось это несказанно трогательное лицо и слышался неотразимый голос»; «стало быть, мне придётся умереть, чтобы быть вместе с нею?»; «.любовь сильнее смерти». Такова динамика сюжетного развития текста «подчинения любви», непреодолимой «зависимости».
Е.П. Кадмина также слыла роковой красавицей, как актриса и женщина она внушала восхищение и любовь многим своим поклонникам (сама же приняла смерть из-за неразделённой любви). О зависимости Тургенева от Полины Виардо написано достаточно много воспоминаний. Например, А.Я. Панаева пишет: «Я помню, раз вечером Тургенев явился к нам в каком-то экстазе.
- Господа, я так счастлив сегодня, что не может быть на свете другого человека счастливее меня! -говорил он.
Оказалось, что у Тургенева очень болела голова, и сама Виардо потёрла ему виски одеколоном. Тургенев описывал свои ощущения, когда почувствовал прикосновение её пальчиков к своим вискам» [10, с. 152].
Тургенев умер в доме Виардо, в присутствии Полины Виардо, которую в последние минуты своей жизни назвал «царицей цариц». Повестью «После смерти (Клара Милич)» писатель, безусловно, от-рефлексировал свою привязанность, свои многолетние чувства, усилив при этом реальную модель конкретных человеческих отношений тем, что его герой испытал неотвратимое чувство всепобеждающей любви к Кларе только после её смерти. «Любовь сильнее смерти», - таково объяснение автора.
В литературоведении отмечалось, что носителем речи в романах Тургенева является не рассказчик («я-повествователь», как в «Записках охотника»), а «нейтральный повествователь»: «Внесюжетное положение повествователя, его принципиальная отдалённость от мира персонажей снимает необходимость конкретизации его образа. Повествователь -вне сферы действия законов, требующих “достоверности” и “характеристики”. Его можно воспринимать просто как носителя речи, о котором ничего не нужно знать и которого не нужно представлять себе конкретным живым человеком», - пишет по этому поводу В.М. Маркович [11, с. 10-11]. По мнению исследователя, такая субъектная организация преследует две основные цели: «приближение к позиции внешнего наблюдения затрудняет прямое проникновение в переживания персонажей» [11, с. 1213]; «ограничение “партии” повествователя <...> освобождает поле действия для внесубъектной авторской активности» [11, с. 43].
Отмеченные особенности субъектной организации тургеневских романов приложимы и к анализируемой повести: в «Кларе Милич...» рассказывает «нейтральный повествователь» (термин Б.О. Кормана).
Нейтральная позиция повествователя даёт возможность автору активно включать речь персонажей, которых не нужно «представлять» (т.е. сопровождать эти образы подробностями, логически обусловливать их появление) читателю. Например, на первых же страницах возникает ситуация «отнесённости к чужому мнению»: по словам соседей, отец Якова Аратова «слыл ... чернокнижником». Слово «чернокнижник», с одной стороны, отсылает к «знаменитому Брюсу» («Я, Брюс, один из просвещённейших людей Петровской эпохи, в народе имел славу “величайшего чернокнижника, предсказателя и вообще колдуна”» [6, с. 317]), что расширяет временной образ повести. При этом, доказав учёность «старика Аратова», повествователь обнаруживает большую осведомлённость в семейных делах персонажей. Не без иронии сообщается о неожиданных результатах медицинских опытов отца. Содержание повествования весьма печально, но сам тон способен вызвать усмешку читателя и развеять складывающееся мрачное настроение: «Этими самыми порошками он свёл в могилу свою молоденькую, хорошенькую, но уж слишком тоненькую жену, которую любил страстно и от которой имел единственного сына. Теми же металлическими порошками он порядком попортил здоровье также и сына, которое, напротив, желал подкрепить» [6, с. 356-357]. Кроме того, именно здесь впервые заявил о себе мотив отравления, который является главенствующим в кадминском «претексте». Как видно, субъектные сферы повести демонстрируют пластичность, определённую полифоничность, дающую возможность автору сохранять атмосферу недосказанности и таинственности.
Слово «мистика» впервые введено именно повествователем, который вовсе не настаивает, что в неё можно и нужно верить. Например, таинственнострашная финальная сцена (в руке умирающего Якова зажата прядь чёрных волос Клары Милич, которая умерла и похоронена в Казани и которая явно посетила ночью московское жилище Аратова) комментируется так: «Откуда взялись эти волосы? У Анны Семёновны была такая прядь, оставшаяся от Клары; но с какой стати было ей отдать Аратову такую для неё дорогую вещь? Разве как-нибудь в дневник она её заложила - и не заметила, как отдала?».
Особого рассмотрения заслуживает композиция повести, её «ритм». «Ритм композиции» в данном случае означает «упорядоченное сочетание композиционно цельных отрезков разной длины» [12, с. 122]. Под композицией же понимается «построение (композиционная организация)» произведения, «взаимная соотнесённость и расположение единиц изображаемого и художественно-речевых средств» [13, с. 156, 262]. Сразу же нужно отметить, что ритм композиции в основном создаётся чередованием мистических и бытовых фрагментов.
Сама логика композиции, как было отмечено, определяется чередованием сообщений повествователя (который меняет своё «физическое положение», то приближаясь к персонажам, то отдаляясь от них) и мистико-бытовыми фрагментами текста, достаточно информативными.
Повесть «После смерти (Клара Милич)» разбита на небольшие главки (их 18), что позволяет автору без особых психологических мотивировок переходить к очередной сюжетной линии. «Ритм композиции» заявляет о себе уже в I главке. После подчёркнуто «бытового текста», где сообщается о домашних заботах тётки Якова - Платониды Ивановны («Вечно одетая в серое платье и серую шаль, от которой пахло камфарой, она скиталась по дому, как тень, неслышными шагами <...> и очень дельно распоряжалась по хозяйству, берегла каждую копейку и всё закупала сама» [6, с. 358]), повествователь готовит читателя к мистическому: Яков «верил, что существуют в природе и в душе человеческой тайны, которые можно иногда прозревать, но постигнуть - невозможно; верил в присутствие некоторых сил и веяний, иногда благосклонных, но чаще враждебных. и верил также в науку, в её достоинство и важность» [6, с. 358].
В повести достаточно подробно описывается московский быт Аратова (на Шаболовке) и казанский дом Клары Милич (она же Екатерина Миловидова). Создаётся впечатление, что автор сам пытается понять, как в простых семьях (например, в калужском доме Кадминых) вырастают столь одарённые, странные, склонные к мистике люди?
Тургенев, дабы дать читателю передышку, не раз прибегает к приёму упомянутого «задержания». Например, в главке XV, где уже явно заявил о себе «мистический текст» и умершая Клара посетила Аратова («чьи-то пальцы пробежали лёгкими ар-педжиями по клавишам пианино»), повествователь «развлёк» читателя (изрядно напуганного) появлением «бытовой», «реальной» фигуры Платоши. Вместо Клары в венке из красных роз перед Арато-вым стояла его тётка «в ночном чепце с большим красным бантом и в белой кофте» [6, с. 398]. Сам Яков также получил возможность «вернуться к нормальной жизни»: «Аратов ещё раз пристально вгляделся в тётку - и громко засмеялся. Фигура доброй старушки в чепце и кофте, с испуганным, вытянутым лицом, была действительно очень забавна. Всё то таинственное, что его окружало, что давило его, - все эти чары разлетелись разом» [6, с. 398]. Интересно то, что Тургенев следует мистической (например, фольклорной, а также гоголевской) традиции - исчезновение «нечистой силы» после крика петухов: «А за обедом, сидя перед Платошей, он вдруг вспомнил её полуночное появление <...>, всю эту смешную фигуру, от которой, как от свистка машиниста в фантастическом балете, все его видения рассыпались прахом» [6, с. 398].
Композиция повести опирается на смену «бытовых» (реалистических) и «мистических» текстов, и это определяет состояние Якова Аратова. Однако есть ещё один, более глубинный уровень - смена отношения героя к Кларе Милич: от «отвращения» - к неодолимому «влечению». С одной стороны: «Но он тотчас тряхнул головой и с укоризной промолвил: Актёрка!» [6, с. 375]; «.он тотчас вспоминал, как она “фразисто” себя уморила и отворачивался» [6, с. 401]. С другой стороны: «Стало быть, мне придётся умереть, чтобы быть вместе с нею? <.> Ну так что же? Умереть - так умереть. Смерть теперь не страшит меня нисколько» [6, с. 405].
Образы пространства и времени в данной повести также пребывают то в реалистическом - бытовом, то в мистико-фантастическом локусах. Начинается повесть с описания конкретного места и определённого времени: «Весной 1876 года проживал в Москве, в небольшом деревянном домике на Шаболовке, молодой человек.» [6, с. 356]. Однако слово «препараты» (сфера интересов и занятий «старика Аратова») отправляют читателя к таким явлениям, как алхимия, волшебство, колдовство, мистика. Отец занимался химией, минералогией, энтомологией, ботаникой, «металлическими порошками» и сравнивал себя с Парацельсием (14931541). Упоминание о средневековом учёном Пара-цельсе (превзошедшем, по его же мнению, античного Цельсия), безусловно, расширяет «домашний» московский хронотоп, так как сразу вспоминаются - Австрия, Швейцария, Древний Рим - места обитания указанных мыслителей.
Отец Якова считал себя потомком Брюса (именно в его честь старик назвал сына), что отсылает читателя к Петровской Руси. При этом сообщается о строительстве Храма Христа Спасителя («Длительное строительство этого храма в Москве было закончено в 1883 г.», - читаем в комментариях к повести). «Московский текст» не ограничивается Шаболовкой, Тверским бульваром (место единственного свидания Якова и живой ещё Кларой). Герой также путешествует на Остоженку, так как в «большой зале» частного дома пела Клара Милич. Эта сцена соотносится и с жизнью Е.П. Кадминой, по роду своей профессии участвовавшей в концертах, и с фактами биографии Тургенева и Полины Виардо. Клара Милич, по воле писателя, пела романс П.И. Чайковского «Нет, только тот, кто знал свиданий жажду...». «Как известно, этот романс Чайковского любила исполнять Полина Виардо. В частности, она исполнила его на литературномузыкальном утре 15/27 февраля 1875 года. Оно проводилось в связи с учреждением русской (в дальнейшем - "Тургеневской") библиотеки в Париже. Об этом мероприятии сохранились сведения в ряде воспоминаний и даже в агентурной записке III отделения. Г.А. Лопатин вспоминал: "Литературное утро состоялось. Оно проходило в доме Виардо. Madame Виардо вышла петь <...> Она была старухой. Но когда она произносила “Я стражду”, меня мороз подирал по коже, мурашки бегали по спине. Сколько она вкладывала экспрессии"», - сообщает В.Н. Топоров [9, с. 97].
«Российский» топос пополняется сообщениями о том, что Яков ездил в Казань (там жила Клара, именно туда она «после смерти» велела герою оправиться), а Купфер провожал грузинскую княгиню в Ярославль.
Надо отметить, что собственно мистического то-поса в повести нет, Клара «после смерти» является Якову в его же кабинете. Занятия фотографией, использование Яковом специального прибора для рассмотрения портрета Клары даёт лишь намёк на «потусторонний мир». В данном случае экфрасис (явление «металитературное», «в основе которого лежит осмысление соотношения между искусством и действительностью» [14, с. 37]) представлен описанием фотографии - даёт не яркий, а «серый», «тусклый» образ героини, не идущий ни в какое сравнение с её характером «при жизни» и мощным воздействием на Аратова «после смерти». Но время для мистических роковых свиданий выбрано ночное, что, конечно, поддерживает фольклорнолитературную традицию. Сюжет гоголевского «Вия», пушкинской «Пиковой дамы», как известно, также развивается во вполне бытовых топосах: в доме, в избе, в церкви. Тем контрастнее на этом фоне представляется фантастическое.
Образы времени и пространства в произведении расширяются и за счёт культурного контекста. О том, что в повести интертекстуальный (собственно литературный) фон и общекультурный контекст (музыкальный, театральный) будут обширными, читатель может узнать из сообщения повествователя о «грузинской княгине», любительнице музыки, литературы, покровительнице артистов и художников. Отметим, что рассматриваемая повесть относится к произведениям, где об искусстве «говорит повествователь, по своим взглядам близкий к автору» [15, с. 37].
Так как в повести выстраивается триада быт -искусство - мистика и подразумевается сопоставление реальных и вымышленных актрис и певиц (Е.П. Кадмина - Полина Виардо - Клара Милич), то «музыкальный текст» составляет достаточно большую часть произведения.
Литературные цитаты также часто используются Тургеневым, что углубляет эстетический смысл произведения, активизирует читательские ассоциации. Упоминаются Гоголь, комедии А.Н. Островского, его пьеса «Груня». Отнесённость к Островскому - видимо, намёк на «Василису Мелентьеву», последнюю пьесу, где играла Е.П. Кадмина.
Идёт речь о романах В. Скотта («Сен-Ронанские воды»), также Тургенев счёл уместным «вспомнить» Ф. Шиллера («И мёртвые будут жить.»), А. Мицкевича («Я буду любить тебя до скончания века. и по скончании века!»), трагедию В. Шекспира («Таким поцелуем - думалось ему, - и Ромео с Джульеттой не менялись»). Особая роль отводится Библии, несколько раз герой обращается к её «тексту любви»: «Большее сея любве никто же имать, да кто душу свою положит за други своя». Так как в повести Любовь и Смерть неразлучны, то звучит знаменитое: «Смерть, где жало твое?».
Особое внимание Тургенев уделяет пушкинскому («онегинскому») тексту. В «Кларе Милич.» не только цитируется «Письмо Татьяны» (прочитанное Кларой на концерте), но отчасти воспроизводится сама модель отношений Онегина и Татьяны. Клара пишет Аратову письмо, Яков же её по-онегински отчитывает: «Я явился на ваше приглашение <.> для того только, чтобы разъяснить, чтобы узнать, вследствие какого странного недоразумения вам было угодно обратиться ко мне» [6, с. 373].
Многочисленные цитаты, отсылки к художественным произведениям, упоминания имён писателей и композиторов, видимо, указывают на то, что Тургенев ведёт определённую «игру» - подчёркивает «вымышленную» (нереальную) природу своего произведения. С другой стороны, учитывая автобиографичность повести, можно предположить, что цитаты, зачастую взятые из «любовного текста» (литературного и музыкального), вписывают повесть Тургенева в «любовный текст» мирового искусства, указывают на размышления пожилого художника о природе этого загадочного чувства.
И.С. Тургенев создал произведение, где, как уже указывалось, сошлись фантастика, реализм, факты биографий, и два последних элемента не отрицают, а «высвечивают» и подчёркивают первый.
Из различных мнений, ощущений, переживаний персонажей складывается общий вывод о том, что тургеневский «любящий герой прекрасен, духовно окрылён, но чем выше взлетает он на крыльях любви, тем ближе трагическая развязка и - падение. Любовь, по Тургеневу, трагична, потому что перед её стихийной властью беззащитен как слабый, так и сильный человек» [16, с. 60].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Лейдерман, Н.Л. Теория жанра [Текст] / Н.Л. Лейдерман. - Екатеринбург : Институт филологических исследований и образовательных стратегий «Словесник» УРО РАО; Уральский государственный педагогический университет, 2010. - 904 с.
2. Белинский, В.Г. Собр. соч. : в 3 т. Т. 1 [Текст] / В.Г. Белинский. - М. : ГИХЛ, 1948. - 797 с.
3. Захаров, В.Н. Система жанров Достоевского [Текст] / В.Н. Захаров. - Л. : Изд-во ЛГУ, 1985. - 208 с.
4. Антонова, М.В. «Касьян с Красивой Мечи» И.С. Тургенева: «мистический» подтекст [Текст] / М.В. Антонова // Художественный текст и культура : материалы Международной научной конференции 6-7 октября 2005 г. - Владимир : Владимирский гос. пед. университет. - С. 61-64.
5. Литературный энциклопедический словарь [Текст] / под общ. ред. В.М. Кожевникова и П.А. Николаева. -М. : Советская энциклопедия, 1987. - 752 с.
6. Тургенев, И.С. Собр. соч. : в 12 т. Т. 8 [Текст] / И.С. Тургенев. - М. : Худож. лит., 1978. - 527 с.
7. Шпилевая, Г.А. Жанровая эволюция циклов Г.И. Успенского («Нравы Растеряевой улицы», «Разоренье», «Власть земли») : автореф. дис. ... канд. филол. наук [Текст] / Г.А. Шпилевая. - Воронеж : ВГУ, 1993. -18 с.
8. Русская литературная классика XIX века : учебное пособие [Текст]. - Воронеж : ВГУ, 2001. - 426 с.
9. Топоров, В.Н. Странный Тургенев (Четыре главы) [Текст] / В.Н. Топоров. - М. : Российский государственный гуманитарный университет, 1998. - 192 с.
10. Панаева, А.Я. Воспоминания. 1924-1870 [Текст] / А.Я. Панаева. - Л. : Academia, 1948. - 582 с.
11. Маркович, В.М. Человек в романах И.С. Тургенева [Текст] / В.М. Маркович. - Л. : Изд-во Ленинградского ун-та, 1975. - 152 с.
12. Савостин, И.Г. Диалектика фабулы, сюжета и композиции поэмы Н.А. Некрасова «Современники» [Текст] / И.Г. Савостин // Вопросы сюжетосложения. - Рига : Звайгзне, 1978. - С. 119-127.
13. Хализев, В.Е. Теория литературы [Текст] / В.Е. Хализев. - М. : Высшая школа, 1999. - 398 с.
14. Автухович, Т.Е. «Шаг в сторону от собственного тела.». Экфрасисы Иосифа Бродского [Текст] / Т.Е. Автухович. - Siedlce : Opuscula slavica sedlcensia; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016. - 268 s.
15. Шпилевая, Г.А. Динамика прозы Н.А. Некрасова [Текст] / Г.А. Шпилевая. - Воронеж : ВГПУ, 2006. -272 с.
16. История русской литературы XIX века: Вторая половина [Текст] / под ред. Н.Н. Скатова. - М. : Просвещение, 1987. - 608 с.
Для заметок
Технический редактор Ю.С. Молодых Редактор М.В. Бондаренко Компьютерная верстка: О.В. Ситникова
Адрес редакции: 394043, г. Воронеж, ул. Ленина, 86, ВГПУ Редакция журнала «Известия ВГПУ» E-mail: izvestia.vspu@mail.ru Сайт журнала: http://izvestia.vspu.ac.ru Тел. 8-920-219-30-71
Подписано в печать 28.06.2017. Дата выхода в свет 29.06.2017.
Формат 60 х 84/8. Печать трафаретная. Цена свободная.
Гарнитура «Таймс». Усл.-печ. л. 26. Уч.-изд. л. 24,18. Тираж 50 экз. Заказ 209. Издатель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный педагогический университет». Адрес издателя: 394043, г. Воронеж, ул. Ленина, 86.
Отпечатано в издательско-полиграфическом центре ВГПУ.
394043, г. Воронеж, ул. Ленина, 86. Тел. (473) 255-58-32; 255-61-83.
Каптерев П.Ф. Общий ход развития русской педагогики и ее глав
ные периоды / П.Ф. Каптерев // Избранные педагогические сочинения / под ред. А.М. Арсеньева. - М. : Педагогика, 1982. -
С. 258-269.
Каптерев П.Ф. Указанные сочинения. - С. 261.
Информация для связи с автором: pravuch@mail.ru
Исаев Е.И., Слободчиков В.И. Введение в антропологию образования. - Биробиджан : Изд-во ПГУ им. Шолом-Алейхе 18, 2012. - 214 с.
Образовательная деятельность и историко-культурное наследие Отчего края : коллект. монография / под ред. Е.П. Белозерцева. - М. : АИРО-XXI, 2017. - С. 24-25.
Там же, с. 28.
См.: Дрязгунов К. Неоконсерватизм как идеология мировой гегемонии США. - (http://rossiyanavsegda. ru/read/ 561/).
Симбиоз возможен в силу комплементарности и, кроме того, некоторого сходства именно так взаимодействующих систем, что и имело место как в случае масонствующей российской элиты, в которой масонство играло «... роль суррогата церкви.» (см.: Вернадский Г.В. Начертание русской истории. - Пр., 1927. - С. 196-197; Кожинов В.В. История Руси и русского слова. Современный взгляд. - М, 1997. - С. 18.), доведшей Россию до революций, так имеет место и в протестантских странах Запада (см.: Архиепископ Никон (Рождественский). Гордыня и русофобия у западных христиан. - (URL: www.dorogadomoj. com/dr 164nik.html).
См.: Шоню П. Цивилизация классической Европы. -Екатеринбург, 2005.
См.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. - М., 2007. - С. 236-237.
См.: Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. - СПб., 1995.
См., например: Михайлов И.А. Макс Хоркхаймер. Становление Франкфуртской школы социальных исследований. Ч. 1. 1914-1939 гг. - М. : ИФ РАН, 2008. - 207 с.
См.: Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. - М., 2003; Бауман З. Национальное государство - что дальше? // Отечественные записки. - 2002. - № 6. - С. 419-435; Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования . - М., 1999; Кессиди Ф.Х. Глобализация и культурная идентичность // Вопросы философии. - 2003.
- № 1. - С. 76-79; Тишков В.А. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной антропологии. - М. : Наука, 2003.
См.: Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. - СПб., 1995.
См.: Тойнби А. Дж. Постижение истории. - М., 1991.
Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., 1994.
См. также: Гачев Г.Д. Наука и национальные культуры.
- Ростов н/Д, 1992.
См.: Зиновьев А.А. Глобальное сверхобщество и Россия.
- Мн.; М., 2000.
См.: Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. - СПб., 1998.
Кристол У. Неоконсервативное убеждение // Логос. -2004. - № 6. - С. 170-174; Kristol I. Neoconservatism: the Autobiography of an Idea. - New-York etc.: The Free Press,
1995. - P. 63-66.
См.: Гвардини Р. Конец нового времени // Вопросы философии. - 1990. - №4. - С. 127-163; Грей Д. Поминки по Просвещению. Политика и культура на закате современности. - М., 2003.
См.: Бауман 3. Национальное государство - что дальше?
// Отечественные записки. - 2002. - № 6. - С. 419-435;
Харчиков А. Вирус уродства. Антикультура как оружие
массового поражения // Отечественные записки («Совет
ская Россия»). - 2005. - Вып. 69 (7 июля). - С. 9; Хесле
B. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности
// Вопросы философии. - 1994. - № 10. -
C. 112-123.
См.: Подьяков А.Н. Философия образования: проблема противодействия // Вопросы философии. - 1999. - № 8. -С. 119-128.
См.: Противоборство в сфере морально-психологического состояния войск / Б.П. Бархаев [и др.] // Психология и педагогика профессиональной деятельности офицера. - М. : Воениздат, 2011. - С. 438.
См.: Суворов А.В. Наука побеждать. - (http://
www.rulit.me/books/nauka-pobezhdat-read-76220-3.html).
См.: Историогенез и современное состояние российского менталитета / Н.Л. Александрова [и др.]. - М. : Институт психологии РАН, 2015. - 480 с.
См.: Литвиненко А. Оранжевая революция. Украинская версия : монография / А. Литвиненко, В. Малинкович, С. Марков. - М. : Европа, 2005. - 464 с.
См.: Литературная Россия. - 1993. - № 18-19. - С. 8.
См.: Отто фон Бисмарк (1815-1898, германский госу
дарственный деятель). - (https://topwar.ru/37776-voyna-
kotoruyu-vyigral-prusskiy-uchitel.html).
См., например: Спорные проблемы марксистской педагогики : сб. статей / под ред. А.З. Иоанисиани. - М. : Работник просвещения, 1930; Шульгин В.Н. Коммунистическое воспитание // Спорные проблемы марксистской педагогики : сб. статей / под ред. А.З. Иоанисиани. - М. : Работник просвещения, 1930; Педагогика среды и методы её изучения / под ред. М.В. Крупениной. - М. : Работник просвещения, 1930.
См. также: Полонский А. Франкфуртский институт социальных исследований. - (http://www.kastopravda. ru/esse/polonsky/fra.html).
См.: Ванчугов В.В. Неоконсерватизм: что, где, когда? -(http: // www. humanities. edu. ru / db / msg / 79005); Дрязгунов К. Неоконсерватизм как идеология мировой гегемонии США. - (http://rossiyanavsegda.ru/read/561/); Идеология США: Неоконсерватизм. - (http://politikus.ru /articles/86236-ideologiya-ssha-neokonservatizm.html. Politikus.ru); Неоконсервативная идеология. - (http:// allrefs.net/ c9/1mg35/p3/?full); Создатели империи: неоконсерваторы и их проект американской сверхдержавы. - (http://nuclearno.ru/text.asp?12100); Podhoretz, Norman. The Neoconservative Anguish over Reagan's Foreign Policy // The New York Times Magazine (2 May 1982).
См.: Днепров Э.Д. Проблемы образования в контексте
общего процесса модернизации России // Педагогика. -
1996. - № 5. - С. 39; Днепров Э.Д. Школьная реформа
между «вчера» и «завтра». - М., 1996. - С. 82; Днепров Э.Д. Три источника и три составные части кризиса школы // Народное образование. - 2000. - № 2. - С. 232-248.
См.: Костенко И. Стратегическая задача российского образования и политизированная педагогика // Alma mater. -1997. - № 7. - С. 13-19; Олейникова О.Д. Трансформация приоритетных тенденций развития российского образования и воспитания // Философия образования. - 2002. - № 5; Панарин А.С. Народы без элит: между отчаянием и надеждой // Философия хозяйства. Альманах Центра. - 2002. -№1. - C. 52; Пантин В.И., Лапкин В.В. Трансформация национально-цивилизационной идентичности современного российского общества: проблемы и перспективы // Общественные науки и современность. - 2004. - № 1. - С. 52-63; Подьяков А.Н. Философия образования: проблема противодействия // Вопросы философии. - 1999. - № 8. -С. 119-128. Харчиков А. Вирус уродства. Антикультура как оружие массового поражения // Отечественные записки («Советская Россия»). - 2005. (7 июля). - Вып. 69. -С. 9.
Белозерцев Е.П. Образование историко-культурный феномен. - СПб., 2004.
См.: Мануйлов Ю.С. Средовой подход в воспитании. -М.; Нижний Новгород, 2002.
См., например, работы по педагогике среды и теорию «отмирания школы» В.Н. Шульгина и М.В. Крупениной: Крупенина М.В. К вопросу о предмете и методологии педагогики // В борьбе за марксистскую педагогику. - М. : Работник просвещения. - 1929; Крупенина М.В. Методологические предпосылки изучения педагогики среды // В борьбе за марксистскую педагогику. - М. : Работник просвещения. - 1929; Крупенина М.В. Социальная среда как фактор воспитания // От школы учебы к школе общественно полезного труда. - М., 1927; Шульгин В.Н. Основные вопросы социального воспитания. - M., 1925; Крупе-нина М.В. Коммунистическое детское движение и школа // Педагогическая энциклопедия / под ред. А.Г. Калашникова : в 2-х т. - М., 1928, 1929; Шульгин В.Н. Общество, работа школы и программы ГУСа. - M., 1926; Шульгин В.Н. Ленинизм в педагогике. - М., 1928; Шульгин В.Н. На путях к политехнизму. - М., 1930; Шульгин В.Н. Пятилетка и задача народного образования. - М., 1930.
См.: Научно-педагогические школы России в контексте Русского мира и образования : коллект. монография / под ред. Е.П. Белозерцева. - М. : АИРО-XXI, 2016. - 592 с.
См.: Новикова Л.И. Школа и среда / Л.И. Новикова. -М., 1985. - 80 с.; Новикова Л.И. Гуманистическая воспитательная система школы как феномен социальной действительности и объект педагогических исследований // Воспитательная система массовой школы: Проблемы гуманизации: сб. науч. тр. - М. : Изд. НИИТиИП, 1992. -134 с.
См.: Боровская Е.В. Взаимосвязь стихий и образа жиз
ни личности // Стихии, стихийность и стихиальность в образовании : сб. научных статей / под ред.: Ю.С. Мануйлова (отв. ред.), И.И. Сулимы, Е.В. Орлова, Е.М. Кузьминой. - М.; Н. Новгород, 2007. - С. 96-100; Крупина И.В. Образовательная среда семьи и школы как средство воспитания и обучения : автореф. дис. ... докт. пед. наук / И.В. Крупина. - М., 2001; Рубцова О.Б. Среда как фактор воспитания // Социальное взаимодействие в различных сферах жизнедеятельности : материалы II Международной научно-практической конференции. - СПб. : РГПУ
им. А.И. Герцена, 2012. - С. 76-83; Стояновская И.Б. Культурно-образовательная среда Ельца и Елецкого уезда второй половины XIX - начала XX вв. : дисс. ... канд. пед. наук. - Елец, 2002; Сороковых В.В. Николай Яковлевич Данилевский: Горизонты наследия в диалоге миров и эпох (философско-образовательный взгляд) : монография. - Елец, 2008; Сулима С.И. Средовой подход как методология научно-педагогического исследования. - (http: // www. ni-centr. Ru / chitalnyj-zal-centra/metodologiya/sredovoj-podxod-kak-metodologiya-nauchno-pedagogicheskogo-
issledovarnya/?&tpwf_mode=marn); Стихии, стихийность и стихиальность в образовании : сб. научных статей / под ред.: Ю.С. Мануйлова (отв. ред.), И.И. Сулимы, Е.В. Орлова, Е.М. Кузьминой. - М.; Н. Новгород, 2007.
Об утверждении и введении в действие Федерального государственного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» (квалификация (степень) «Бакалавр») [Электронный ресурс]. - (http:// минобрнауки.рф/документы/1909).
Основные образовательные программы Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского [Электронный ресурс]. - (http://lspu-lipetsk.ru/modules).
Компетенции для бакалавра «Прикладная информатика в экономике» (09.03.03) [Электронный ресурс]. -(http://xn--c1arjr.xn--p1ai/ob-mpgu/struktura/faculties/institut-fiziki/bakalavriat/prikladnaya-informatika-v-ekonomike-09-03-03/).
Основная образовательная программа высшего профессионального образования. Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова [Электронный ресурс]. - (OOP_010400_Prikladnaya Matematika i Informatika_2011.pdf).
Учебная версия платформы «1С: Предприятие 8.2» [Электронный ресурс]. - (http ://1c.ru).
Нуралиев, Б. Конкуренты энергичны, бизнес развивается - скучать не приходится [Текст] / Б. Нуралиев // Ведомости. - 2016. - № 4115.
Радченко, М.Г. 1С Предприятие 8.2. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы [Текст] / М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталева. - М. : 1С: Паблишинг, 2013. - 964 с.
Регистрация участников конкурса «1С ИТС» и электронный образовательный ресурс для подготовки к конкурсу [Электронный ресурс]. - (http://student.its.1c.ru/).
Работа выполнена в рамках международного проекта Tempus 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University «Developing the Teaching of European Languages: Modernising Language Teaching through the development of blended Masters Programmes» («Совершенствование преподавания европейских языков на основе внедрения онлайн-технологий в подготовку учителей»).
Бернс, Р. Развитие Я-концепции и воспитание [Текст ] / Р. Бернс. - М. : Прогресс, 1986. - 228 с.
2. Бородовицына, Т.О. Особенности Я-концепции педагогов [Текст ] / Т.О. Бородовицына. - Воронеж : ВГПУ,
2017.
3. Козиев, В.Н. Психологическая компетенция учителя в контексте взаимоотношений учителя и учащихся
[Текст] / В.Н. Козиев. - М. : Издательство АПП СССР, 1989. - 86 с.
4. Маркова, А.К. Психология профессионализма [Текст] / А.К. Маркова. - М. : Знание, 1996. - 312 с.
5. Столин, В.В. Самосознание личности [Текст] / В.В. Столин. - М. : Издательство Московского университета,
1983. - 288 с.
6. Эриксон, Э. Идентичность: юность и кризис [Текст] / Э. Эриксон. - М. : Прогресс, 2006. - 352 с.
Заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 13 июля 2016 г. - (Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/52504).
О приоритетных проектах в сфере образования: заседание президиума Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 24 августа 2016 г. - (Режим доступа: http://government.ru/news/24274/).
Богуславский, М.В. Технологии разработки конкурентных образовательных продуктов университетами России в контексте кризиса глобализации (компаративистский подход) [Текст] / М.В. Богуславский, Е.В. Неборский // Междунар. сотрудничество: интеграция образовательных пространств : матер. III Междунар. научн.-практ. конф. - Ижевск : Издат. центр «Удмуртский ун-т», 2016. - С. 17-22.
2. О национальной доктрине образования в Российской Федерации : Постановление Правительства Рос.
Федерации от 4 октября 2000 г. № 751 [Электронный ресурс]. - (Режим доступа :
https://rg.ru/2000/10/11/doktrina-dok.html).
3. Заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 13 июля 2016 г. [Электронный ресурс]. - (Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/52504).
4. О приоритетных проектах в сфере образования: заседание президиума Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 24 августа 2016 г. [Электронный ресурс]. - (Режим доступа: http://government.ru/news/24274/).
5. Певзнер, М.Н. Развитие образовательных программ с двойным дипломом как инструмент повышения конкурентоспособности российских вузов [Текст] / М.Н. Певзнер, Э.Е. Каминская // Международное сотрудничество: интеграция образовательных пространств : матер. III Междунар. научн.-практ. конф. -Ижевск : Издат. центр «Удмуртский ун-т», 2016. - С. 248-253.
6. Международная деятельность университета [Электронный ресурс]. - (Режим доступа : http://urfu.ru/ru/international/.
7. Филимонова, Н.Ю. Роль педагогического общения в формировании межкультурной коммуникации [Текст] / Н.Ю. Филимонова, Е.С. Романюк // Вестник науки Сибири. Сер. Филология. Педагогика. - Томск : Изд-во ГОУ ВПО ТПУ, 2014. - № 2(12).
8. Татаринцева, А.Ю. Адаптация студентов-первокурсников педагогического вуза с использованием арт-технологий [Текст] / А.Ю. Татаринцева, В.В. Кузнецова // Известия ВГПУ. Сер. Рос. образование сегодня. - 2017. - №1(274). - С. 29-31.
9. Витковская, М.И. Адаптация иностранных студентов к условиям жизни и учебы в России [Текст] / М.И. Витковская, И.В. Троцук // Вестник РУДН. Сер. Социология. - 2004. - № 6-7. - С. 267-283.
Струмилин, С.Г. Очерки экономической истории России [Текст] / С.Г. Струмилин. - М. : Издательство социально-экономической литературы, 1960. - 548 с.
2. О первоначальном накоплении в России (XVII-XVIII вв.) [Текст]. - М. : Изд-во АН СССР, 1958. - 541 с.
3. Любомиров, П.Г. Очерки по истории русской промышленности [Текст] / П.Г. Любомиров. - М. : Госпо-литиздат, 1947. - 760 с.
4. Лаповок, И.Е. Конопля. Экономика и техника культуры [Текст] / И.Е. Лаповок. - М. : Новая деревня, 1927. - 116 с.
5. Кафенгауз, Б.Б. Очерки внутреннего рынка России первой половины XVIII века [Текст] / Б.Б. Кафен-гауз. - М. : Изд-во АН СССР, 1958. - 353 с.
6. Кулишер, И.М. История русского народного хозяйства. [Текст] / И.М. Кулишер. - М. : Мир, 1925. - Т. 2. - 440 с.
7. Семенов, А.В. Изучение исторических сведений о российской внешней торговле и промышленности с половины XVII столетия по 1858 год. [Текст] / А.В. Семенов. - СПб. : Типография И.И. Глазунова и К°, 1859. - Ч. III. - 536 с.
8. Волков, М.Я. Города Верхнего Поволжья и Северо-Запада России. Первая четверть XVIII в. [Текст] / М.Я. Волков. - М. : Наука, 1994. - 240 с.
9. Заозерская, Е.И. У истоков крупного производства в русской промышленности XVI-XVII веков [Текст] / Е.И. Заозерская. - М. : Наука, 1970. - 476 с.
10. Крижанич, Ю. Политика [Текст] / Ю. Крижаниц. - М. : Новый свет, 1997 - 527 с.
Кустарная промышленность России. Разные промыслы. [Текст]. - СПб. : Г.У.З. и З. Отд. сельской экономии и сельскохоз. статистики, 1913. - Т. I. - 580 с.
Сборник статей по истории и статистике русской периодической печати: 1703-1903 гг. [Текст]. - М., 1903.
2. Самодержавие и печать в России [Текст]. - СПб., 1906.
3. Лисовский, Н.М. Библиография русской периодической печати 1703-1900 гг. [Текст] / Н.М. Лисовский. -Пг., 1915.
4. Скабичевский, А.М. Очерки истории русской цензуры [Текст] / А.М. Скабичевский. - СПб., 1892.
5. Дризен, Н.В. Драматическая цензура двух эпох. 1825-1881 гг. [Текст] / Н.В. Дризен. - СПб., 1917.
6. Энгельгардт, Н.А. Очерк истории русской цензуры в связи с развитием печати (1703-1903) [Текст] / Н.А. Энгельгардт. - СПб., 1904.
7. Лемке, М.К. Николаевские жандармы и литература 1826-1855 гг. [Текст] / М.К. Лемке. - СПб., 1908.
8. Лемке, М.К. Пропущенный юбилей: 100-летие русского устава о цензуре [Текст] / М.К. Лемке // Русская мысль. - 1904. - № 1.
9. Лемке, М.К. Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия («Эпоха цензурного террора») [Текст] / М.К. Лемке. - СПб., 1904.
10. Афанасьев, А.Н. Русские сатирические журналы 1769-1774 гг. [Текст] / А.Н. Афанасьев. - М., 2012.
Розенберг, В. Русская печать и цензура в прошлом и настоящем: статьи [Текст] / В. Розенберг, В. Якуш-кин. - М., 1905.
12. Розенберг, В.А. Летопись русской печати [Текст] / В.А. Розенберг. - М., 1914.
13. Ольминский, М.С. Право на свободу печати [Текст] / М.С. Ольминский // Образование. - 1908. - №1. - С. 1-37.
14. Ольминский, М.С. Свобода печати [Текст] / М.С. Ольминский. - СПб., 1906.
15. Ольминский, М.С. О печати [Текст] / М.С. Ольминский. - Л., 1926.
16. Пекарский, А.П. Редактор, сотрудники и цензура в русском журнале. 1755-1764 [Текст] / А.П. Пекарский. - СПб., 1867.
17. Ленин, В.И. Карьера [Текст] / В.И. Ленин // Полн. собр. соч. - Т. 22. - С. 43-44.
18. Маркс, К. Письмо в редакцию «Отечественных записок» [Текст] / К. Маркс // Полн. собр. соч. / К. Маркс, Ф. Энгельс. - 2-е изд. - М. : Издательство политической литературы, 1955-1974. - Т. 19. -С. 116-121.
История русской армии и флота [Текст] / А.С. Гришинский [и др.]. - М. : Образование, 1911. - Т. 1-15.
2. Иссерсон, Г.С. Эволюция оперативного искусства [Текст] / Г.С. Иссерсон. - М. : Издательство наркомата обороны СССР, 1937. - 144 с.
3. История военной стратегии России [Текст] / под ред. В.А. Золотарева. - М. : Кучково поле, 2000. - 592 с.
4. Сегюр, Ф.-П. История похода в Россию. Мемуары генерал-адъютанта [Текст] / Ф.-П. де Сегюр. - М. : Захаров, 2014. - 464 с.
5. Барклай-де-Толли, М.Б. Изображение военных действий 1812 года [Текст] / М.Б. Барклай-де-Толли. - Спб. : Типография П.П. Сойкина, 1912. - 107 с.
6. Жомини, А. Краткое начертание военного искусства [Текст] /А. Жомини. - СПб. : Типография путей сообщения и зданий, 1840. - Ч. 1. - 167 с.
7. Борисов, В. Стратегическое мышление Суворова [Текст] / В. Борисов // Военная мысль в изгнании. - М. : Военный университет «Русский путь», 1999.
8. Жучков, К.Б. Кавалерийское наставление К.В. Голицына: неизвестный источник французского влияния в русской армии в начале XIX в. [Текст] / К.Б. Жучков // Власть, общество, армия. - 2013. - С. 73-76.
9. История русской армии и флота [Текст] / А.С. Гришинский [и др.]. - М. : Образование, 1911. - Т. 3.
Достоевский, Ф.М. Полн. собр. соч. : в 30 тт. [Текст] / Ф.М. Достоевский. - Л. : Наука, 1985.
2. Чернов, С.Л. Россия на завершающем этапе восточного кризиса 1875-1878 гг. [Текст] / С.Л. Чернов. - М. :
Изд-во Московского ун-та, 1984.
3. Сентов, М.М. «Предъевразийство» Ф.М. Достоевского: истоки и художественное воплощение : автореф. дис. ... канд. филол. наук [Текст] / М.М. Сентов. - Магнитогорск, 2010.
4. Экк, Э.В. От Русско-турецкой до Мировой войны: Воспоминания о службе. 1868-1918 [Текст] / Э.В. Экк. -
М. : Кучково поле, 2014.
5. Белова, К.А. Константинополь и «Третий Рим» в «Дневнике писателя» Ф.М. Достоевского (1876-1877)
[Текст] / К.А. Белова // Восток в русской литературе XVIII - начала XIX века. Знакомство. Переводы. Восприятие. - М., 2004.
Булдаков, В.П. Красная Смута: Природа и последствия революционного насилия [Текст] / В.П. Булдаков. - 2-е изд., доп. - М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. - 967 с.
2. Булдаков, В.П. Война, породившая революцию: Россия, 1914-1917 гг. [Текст] / В.П. Булдаков. - М. : Новый хронограф, 2015. - 720 с.
3. Асташов, Б.А. Дезертирство и борьба с ним в царской армии в годы Первой мировой войны [Текст] / Б.А. Асташов // Российская история. - 2011. - № 4. - С. 44-52.
4. Головин, Н.Н. Военные усилия России в мировой войне [Текст] / Н.Н. Головин. - М. : Кучково поле,
2001. - 440 с.
5. Семёнов, Г.М. О себе: Воспоминания, мысли и выводы. 1904-1921 [Текст] / Г.М. Семёнов. - М. : АСТ,
2002. - 380 с.
6. Асташов, Б.А. Русский фронт в 1914 - начале 1917 года: военный опыт и современность [Текст] / Б.А. Асташов. - М. : Новый хронограф, 2014. - 740 с.
7. Оськин, М.В. Российские дезертиры Первой мировой войны [Текст] / М.В. Оськин // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. - 2014. - № 5(60). - С. 46-60.
8. Оськин, М.В. Полиция Российской империи в годы Первой мировой войны: борьба с дезертирством [Текст] / М.В. Оськин // Современные проблемы права и управления : материалы 3-й Международная научная конференция. - Тула, 2013. - Ч. 1. - С. 123-129.
9. Нагорная, О.С. «Другой военный опыт»: российские военнопленные Первой мировой войны в Германии (1914-1922) [Текст] / О.С. Нагорная. - М. : Новый хронограф, 2010. - 440 с.
10. Беляев, С.А. Дислокация воинских частей и их участие в революционных событиях на территории Центрального Черноземья в начале XX столетия: 1900 - октябрь 1917 гг. : дис. ... канд. ист. наук [Текст] / С.А. Беляев. - Курск, 2003. - 212 с.
Протасов, Л.Г. Солдаты гарнизонов Центральной России в борьбе за власть Советов [Текст] / Л.Г. Протасов. - Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1978. - 191 с.
12. Соболев, П.Н. Подготовка социалистической революции и установление Советской власти в Воронежской губернии [Текст] / П.Н. Соболев. - Воронеж : Воронежское книжное издательство, 1955. - 149 с.
13. Воронков, И.Г. Воронежские большевики в борьбе за победу Октябрьской социалистической революции [Текст] / И.Г. Воронков. - Воронеж : Воронежское областное книгоиздательство, 1952. - 196 с.
14. Иванов, Р.Н. Борьба с дезертирством нижних чинов на территории Воронежской в 1914-1916 гг. [Текст] / Р.Н. Иванов // Исторические, философские, политические и юридичекие науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - 2011. - № 4-2. - С. 72-75.
15. Государственный архив Воронежской области (далее - ГАВО). - Ф. Р-2393. - Оп. 1. - Д. 10.
16. ГАВО. - Ф. И-104. - Оп. 1. - Д. 84.
17. Карпачёв, М.Д. Положение деревни и продовольственное обеспечение населения Воронежской губернии в годы Первой мировой войны [Текст] / М.Д. Карпачёв // Общество и власть в России: проблемы взаимодействия. XV - начало XX : межвузовский сборник научных работ. - Воронеж, 2011. - С. 141-181.
18. Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области. - Ф. 5. - Оп. 1. -Д. 365.
19. ГАВО. - Ф. Р-2393. - Оп. 1. - Д. 3.
20. ГАВО. - Ф. И-14. - Оп. 1. - Д. 8.
21. ГАВО. - Ф. Р-2393. - Оп. 1. - Д. 5.
22. В губернии [Текст] // Воронежский телеграф. - 1917. - 18 июля.
Высший монархический совет (ВМС, SMB) - монархическая организация, созданная русскими эмигрантами в 1921 г. в Рейхен-галле. ВМС существует до настоящего времени с центром в г. Монреале (Канада).
Так в тексте документа. На документе имеется помета: К делу ВМС.
Со временем Токио утратил статус центра русской эмиграции.
Образован 12 декабря 1920 г. группой бывших членов Государственной Думы и Государственного совета, находившихся во Франции.
Учрежден постановлением 1-го съезда Русского национального объединения 12 июня 1921 г. в Париже как центральный орган созданного на этом съезде Русского национального союза.
Существовал в промежуток с 1921 по 1927 гг.
«Русский очаг» - название кружка-клуба в Париже. Помимо этой организации, существовало также издательство с аналогичным названием.
Имеется в виду Российский торгово-промышленный и финансовый союз (Торгпром) - общественная организация, основанная в Париже в 1920 г. по инициативе и при финансовой поддержке Н.А. Денисова для защиты интересов русских предпринимателей-эмигрантов. Находилась в крайней оппозиции к советской власти. В руководство организации входили крупнейшие российские промышленники - С.Н. Третьяков, А.О. Гукасов, С.Г. Лианозов, Л.А. Манташев, Г.А. Нобель, братья Рябушинские, О.С. Трахтерев и др. Неофициальный орган - газета «Возрождение» (1925-1940). В 1940 г. организация прекратила свое существование.
Имеется в виду Комитет представителей русских частных (ком
мерческих) банков, называвшийся обычно Банковским комитетом
или Комитетом банков. Эта организация была создана в Париже в 1919 г., и ее главной целью было быстрое восстановление банков
ско-финансовой системы в России после ожидавшегося скорого падения большевиков.
Русский совет образован в Константинополе в апреле 1921 г. В его состав вошли активные деятели правительств П.Н. Врангеля в Крыму: В.В. Мусин-Пушкин, В.В. Шульгин, П.Д. Долгорукий, А.И. Пильц, Г.П. Алексинский и др.
Имеется в виду Русский политический комитет в Польше (РПК) -антибольшевистская политическая организация, существовавшая в 1920-1921 гг. Была организована в Варшаве Б.В. Савинковым во время советско-польской войны. От имени РПК формировались русские соединения для участия в войне на польской стороне. В 1920 г. переименован в Русский эвакуационный комитет.